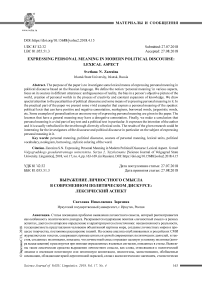Внутрисемейные диалоги о профессии: лингвоаксиологическая интерпретация
Автор: Ицкович Татьяна Викторовна, Купина Наталия Александровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты лингвоаксиологического анализа двух внутрисемейных диалогов. Аудиозаписи продолжительностью 60 минут были сделаны в Екатеринбурге в 2018 году. Коммуникативные партнеры: дочь, студентка, 18 лет, мать, учительница, 44 года; дочь, студентка, 19 лет, мать, пекарь-кондитер, 42 года. Объект анализа - речевые партии участниц коммуникативного взаимодействия. Цель исследования - ортологическая, лингвокоммуникативная, аксиологическая характеристика диалогов и выявление по данным живой речи примет гендерного лингвокультурного типажа как «характера». В ходе ортологического анализа речевых партий дочерей обнаружена тенденция к употреблению общежаргонной экспрессивной лексики, зафиксировано непреднамеренное нарушение кодифицированных языковых норм. В репликах матери-кондитера отмечены отдельные черты городского уральского просторечия, не нарушающие общелитературного облика речи. Обе матери следят за правильностью речи дочерей и, занимая позиции коммуникативного лидера, регулируют содержательную и фатическую составляющие семейного общения. В статье выявлены особенности внутрисемейной кооперативной коммуникации: откровенность, другоцентризм, право на независимое мнение, дозированное употребление категорических императивов и тревожной лексики. Специальный предмет лингвоаксиологического анализа - развитие общей для обоих диалогов стратегически заданной темы «путь в профессию», включенной в биографическое время матери. Интерпретация номинаций базовых ценностей, аксиологических суждений, высказываний-самооценок позволила охарактеризовать приметы лингвокультурного типажа работающей матери, выбравшей профессию по призванию: любовь к семье и к профессии, концептуальность мышления, чувство ответственности, склонность к самоанализу, выверенность альтернативного аксиологического выбора, духовные, но не утилитарные ценностные предпочтения.
Аксиологический выбор, внутрисемейное общение, кооперативный диалог, лингвокультурный типаж, ортология, стратегия, тема
Короткий адрес: https://sciup.org/149129924
IDR: 149129924 | УДК: 81’42:314.6 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.4.14
Текст научной статьи Внутрисемейные диалоги о профессии: лингвоаксиологическая интерпретация
DOI:
Цитирование. Зарезина С. Н. Выражение личностного смысла в современном политическом дискурсе: лексический аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 163–169. – DOI:
Актуальность исследования личностного смысла
Антропоцентризм, признанный в настоящее время основным методологическим подходом к анализу языковых фактов, постулирует всеобъемлющее присутствие человека в языке. Особое место в современной антропологической лингвистике занимает исследование личностных смыслов, поскольку насыщение дискурса собственным «Я» говорящего, включенность говорящего в денотативную ситуацию, отражающую особенности его личности, повышает эффективность дискурса, его воздействующий потенциал. Исследование политического дискурса, на формирование которого влияет как социальный, так и индивидуальный опыт автора, позволит расширить наши представления о природе личностного смысла, особенностях его порождения и функционирования в дискурсе данного типа.
Цель статьи состоит в выявлении лексических средств выражения данного смысла в современном русскоязычном политическом дискурсе.
Теоретические основы исследования личностного смысла
Лингвистическая теория личностного смысла восходит к теории смысла говорящего (utterer’s meaning), выдвинутой П. Грайсом. Смысл говорящего трактуется как относящийся к какому-либо определенному моменту или событию и напрямую зависит от личного мира говорящего, находящегося в разной степени соотнесенности с реальным положением вещей и детерминированного целями, мотивами, установками и интенциями самого говорящего [Grice, 1989, р. 98].
Истоки изучения личностного смысла в отечественной науке восходят к работам та- ких психологов, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др. А.Н. Леонтьев различает «зна-чение-в-себе» и «значение-для-меня», которое и определяет как личностный смысл. Помимо этого общего определения исследователь характеризует личностный смысл как отражение в сознании отношения мотива (деятельности) к цели (действию) [Леонтьев, 2000, с. 98–103].
В современных исследованиях понятие личностного смысла трактуется учеными с разных позиций. Так, В.В. Красных рассматривает личностный смысл в аспекте теории текста и определяет его как глубинный смысл, свернутую структуру, в основе формирования которой лежит ситуация и индивидуальное когнитивное пространство автора (его личный фонд знаний). Текст, в этой трактовке, отражает ситуацию не непосредственно, а через восприятие ситуации автором и через ее отражение в его сознании [Красных, 1998, с. 62].
Рассуждая о природе личностного смысла в политическом дискурсе, О.А. Стрелкова отмечает, что в интересах политика сделать так, чтобы заложенный в его дискурсе личностный смысл восприняли как можно больше людей. Однако проблема заключается в том, что этот смысл связан с реальностью каждого субъекта, его жизнью, представлениями, культурными ориентирами, мотивами. Поэтому, облекая свой смысл в символическую лексическую форму, политик вынужден выбирать наиболее узнаваемый или, по крайней мере, точный образ, снижая вероятность двусмысленности [Стрелкова, 2006, с. 83].
По словам А.П. Чудинова, сочетание в политическом дискурсе институционального и личностного варьируется. «Уровень институ-циональности сокращается в жанрах, совмещающих признаки публицистического, личностного и политического дискурса, особенно при отражении политических проблем в СМИ в рамках специальных жанров (репортаж, фельетон, колонка обозревателя и др.). Вместе с тем во многих случаях политики стремятся сделать свое выступление более естественным, приближающимся по своим внешним признакам к бытовому диалогу. <...> Такое построение речи производит впечатление особой доверительности, искренности, позволяет сказать больше, чем это позволяет официальная обстановка» [Чудинов, 2009, с. 45].
Характеризуя политический дискурс российского общества в последнее десятилетие ХХ в., А.П. Чудинов отмечает его яркость, граничащую с карнавальностью и раскрепощенность, граничащую со вседозволенностью и политическим хамством. Специфику этого дискурса в значительной степени определяют свойственные социальному сознанию концептуальные векторы тревожности, подозрительности, неверия и агрессивности, ощущение «неправильности» существующего положения дел и отсутствия надежных идеологических ориентиров, «национальной идеи», объединяющей общество [Чудинов, 2009, с. 158–190]. Выражение личностного смысла в современном политическом дискурсе исследователь связывает с особым стремлением политиков к индивидуальному «фирменному» стилю, экспрессивности.
Мы понимаем личностный смысл как состояние сознания человека, возникающее в результате соотнесенности вербального или невербального выражения с денотативной ситуацией, сконструированной говорящим / пишущим в соответствии с его интенциями на основе веры, желания, личного мнения или эмоций [Зарезина, 2004, с. 91].
Источником личностного смысла является, во-первых, неоднозначность реальности – такое положение вещей в мире, по поводу которого возможны разные мнения, предположения, гипотезы и т. п. Во-вторых, личностный смысл возникает в результате трансформаций в объективной картине мира – искажения реальности человеком, тенденциозного представления им реального положения вещей. В-третьих, его источником является «небытие», то есть особые личные миры, созданные в результате творчества, веры или эмоционально-волевого усилия их авторов и воплощенные в текстах. В-четвертых, в ка- честве источника личностного смысла выступает происходящий в каждом человеке постоянный рост живого знания, контроль личности над ним и формирование индивидуальных контекстов в общем коллективном массиве знаний [Зарезина, 2004, с. 50].
Таким образом, личностные смыслы, являющиеся частью современного политического дискурса, отражают целевую установку автора, его отношение к описываемой денотативной ситуации.
Лексические средства выражения личностного смысла в русскоязычном политическом дискурсе
Специальные исследования в области политического дискурса показывают, что его специфика создается, прежде всего, на лексическом уровне, поэтому рассмотрим именно лексические средства выражения личностного смысла в современном русскоязычном политическом дискурсе. Материалом для работы послужили тексты журналистов, посвященные политической тематике и содержащие прямые цитаты из высказываний политических деятелей и тексты, созданные людьми, профессионально занимающимися политической деятельностью, то есть политиками.
-
I. Выражение личностных смыслов говорящего обеспечивается употреблением слов, относящихся к политической лексике. Они могут приобретать положительные или отрицательные коннотации. Примером их реализации служат контексты, в которых используется центральный для политики термин государство :
-
(1) Для России характерна традиция сильного государства (Путин);
-
(2) Любую чудную страну испортить можно государством (Порошенко).
В примере (1) данный термин имеет положительную коннотацию и обозначает государство как политическую целостность, созданную многонациональной общностью на территории России. В примере (2) лексема государство имеет негативную коннотацию и обозначает совокупность официальных органов власти, действующих на территории современной Украины.
Часто слова, используемые политиками, совпадают в области денотатов, но различаются по коннотации: сепаратисты и освободители , контртеррористическая операция и война . Например, действия России по отношению к Украине политики называют освобождением , вторжением , оккупацией или агрессией в зависимости от того, какая из конфликтующих сторон входит в «свой мир» для говорящего.
-
II. Выражение личностного смысла происходит в результате использования неологизмов, в том числе и окказионализмов. Примерами могут служить такие единицы, как пропутинский , антитеррористичес-кий , нормандский формат (название, закрепившееся за дипломатической группой высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию кризиса на Донбассе, работа которой началась после встречи глав перечисленных государств 6 июня 2014 г. в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии).
-
III. В современном политическом дискурсе продолжается диктуемый как потребностями общества, так и политической ситуацией процесс заимствования иноязычных слов и образование варваризмов.
Значительная часть заимствований уже прочно вошла в русский язык. Кроме того, обращает на себя внимание широкое использование в российском политическом дискурсе и неассимилированных английских слов и выражений ( делинквент , месседж , истеблишмент , брифинг , денонсация и др.):
-
(3) Никакого прайвеси у чиновников, когда они в служебных автомобилях, быть не должно (Общество синих ведерок).
Заимствованные слова, употребленные в речи, безусловно, придают ей образность и выражают личное отношение говорящего к предмету высказывания.
IV. Способом выражения личностного смысла в современном политическом дискурсе является навешивание ярлыков, в качестве которых чаще всего выступают термины-идеологемы, то есть слова, содержащие в своих значениях идеологический компонент. Некоторые из них имеют пейоративную коннотацию
( гитлеровцы , оккупанты , экстремисты , сталинисты ), а другие являются нейтральными ( либералы , патриоты , ЛДПРовцы ).
V. Нередко в политическом дискурсе используется такой способ образования новых слов, как словосложение. Такие лексические единицы, как правило, имеют негативную коннотацию ( либерасты , путлер , дерьмократ , губернизация , азиатизация ).
VI. Для выражения личностного смысла весьма широко используются стилистически маркированные слова. С одной стороны, это книжная, «высокая» лексика ( взывать , нерушимый , огласить и др.), а также клише и штампы, характерные для публицистического стиля ( гневный протест , мировое сообщество , встреча на высшем уровне и др.), с другой – разговорная и просторечная лексика, а также сленг, жаргон и др. Примерами использования такой лексики могут послужить высказывания российских лидеров:
-
(4) Вышли, не имея права, – получите по башке дубиной (Колесников);
-
(5) Но это все-таки не блины печь ! (Колесников);
-
(6) Подрыв устоев отечественной экономики провокационными призывами « не кошмарить бизнес»? (Камышев).
Исследователи современного политического дискурса отмечают, что в последнее время значительно понизился порог приемлемости в использовании нелитературной лексики, в том числе вульгарных и бранных слов. Некоторые участники политического процесса, бравируя «близостью к народу», позволяют себе выражения, за которые обычных граждан, по меньшей мере, штрафуют [Чудинов, 2009, с. 243]. Экспликация личностного смысла посредством использования разговорных, просторечных и др. стилистически сниженных слов помогает достичь выразительности, отражает особое эмоциональное состояние говорящего, способствует влиянию на адресата. Например:
-
(7) Мы будем оставаться государством- уродом , страной идиотов , землей сумасшедших (Жириновский);
-
(8) Нацболы? Засранцы они. Да мало ли у нас таких клопов вонючих ? У них одна цель – повонять и уйти (Репортаж со съезда);
-
(9) Я думаю, что Сечин тоже уже всё. Репутация его на западе уже кончена. Все знают, что это крокодил такой, что он ЮКОС похитил в свое время и с Путиным они дружбаны (Троицкий);
-
(10) Все вопросы им тут написали на бумажке, всякие дурацкие дежурные вопросы (Сапожников).
Следует особо отметить, что использование коллоквиализмов, сленгизмов и вульгаризмов стало вполне допустимым в современных СМИ. Политики используют слова из криминального жаргона, например:
-
(11) В туалете поймаем, мы в сортире их замочим , в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно (Сербицкий);
-
(12) Немножко типа подраскрутить (Колесников);
-
(13) Наркоденьги , которые « закачивали » в бюджет (Рискин).
VII. Выражение личностного смысла может осуществляться посредством лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний), приобретающих в контексте уничижительное значение: кое-как , кое-кто, так называемый , позиционирующий себя , с позволения сказать , а также дейктических слов эти , там, те , являющихся показателями недоверия к оппоненту и умаления его значимости.
VIII. Обобщенные номинации, которые заменяют слова, называющие конкретных участников события и объекты, связанные с ними, являются еще одним средством выражения личностного смысла. Они увеличивают неопределенность как в описании, так и в интерпретации конкретной ситуации или в характеристике лица. Кроме этого, такие обобщенные номинации обладают дерогативной окраской:
-
(14) Верные путинцы : всего лишь реинкарнированные власовцы (Мономах);
-
(15) Эти навязчивые ковальчуки (Троицкий);
-
(16) ... этих путинских приживалок (Троицкий).
IX. Для выражения личностного смысла говорящего широко используется аксиологическая лексика плодотворный , беспрецедентный , пагубный , взаимопомощь , единение , долготерпение и др.
Выводы
Итак, личностные смыслы являются важной частью содержания любого, в том числе и политического дискурса. Они отражают интенцию автора и реализуются при помощи определенных языковых сигналов. В политической речи выражение личностного смысла осуществляется, прежде всего, посредством употребления различных лексических единиц: слов, имеющих как позитивную, так и негативную коннотации, неологизмов, заимствований, жаргонизмов, аксиологической лексики. Политики используют обобщенные номинации, которые обладают ярко выраженной дерогативной окраской. Кроме того, особенностью современной политической коммуникации является использование лексических ресурсов некодифици-рованных сфер языка.
Список литературы Внутрисемейные диалоги о профессии: лингвоаксиологическая интерпретация
- Бартминьский Е., 2005. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М.: Индрик. 528 с.
- Борисова И. Н., 2000. Замысел разговорного диалога в структуре коммуникации // Культурно-речевая ситуация в современной России / под ред. Н. А. Купиной. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. С. 241-272.
- Земская Е. А., 1988. Политематичность как характерное свойство непринужденного диалога // Разновидности городской устной речи. М.: Наука. С. 234-240.
- Ильин И. А., 1994. Путь к очевидности // Собр. соч. в 10 т. М.: Русская книга. Т. 3. С. 383-560.
- Карасик В. И., 2010. Языковая кристаллизация смысла. М.: Гнозис. 351 с.
- Китайгородская М. В., Розанова Н. Н., 2010. Языковое существование современного горожанина. На материале языка Москвы. М.: Языки славянских культур. 496 с.
- Ковшова М. Л., Гудков Д. К., 2017. Словарь лингвокультурологических терминов / отв. ред. М. Л. Ковшова. М.: Гнозис. 192 с.
- Костомаров В. Г., 2014. Язык текущего момента: понятие правильности. СПб.: Златоуст. 220 с.
- Крысин Л. П., 2004. Русское слово: свое и чужое. Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры. 888 с.
- Русская разговорная речь, 1973. Русская разговорная речь / отв. ред. Е. А. Земская. М.: Наука. 485 с.
- Седов К. Ф., 2000. Речевое поведение и типы языковой личности // Культурно-речевая ситуация в современной России / под ред. Н. А. Купиной. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. С. 298-311.
- Сиротинина О. Б., 1983. Русская разговорная речь. М.: Просвещение. 80 с.
- Сиротинина О. Б., 2003. Характеристика типов речевой культуры // Проблемы речевой коммуникации. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. Вып. 2. С. 3-20.