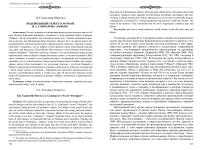Водевильный сюжет в романе И.А. Гончарова "Обрыв"
Автор: Ермолаева Нина Леонидовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые в гончарововедении осуществляется анализ образа Полины Карповны Крицкой и связанного с этой героиней сюжета в романе «Обрыв». Автор показывает, как Гончаров увязал его с такими героинями мировой культуры, как Прекрасная Дама, Калипсо, Далила. В то же время анализ образа Крицкой в качестве комической, «карикатурной» героини, «героини в маске» позволяет утверждать, что он вобрал в себя приметы таких персонажей комедии дель арте, как Фантеска и Коломбина. Вычленение в тексте романа комического сюжета «Крицкая - Райский» помогает доказать, что он развивается параллельно трагическому сюжету Веры и Марка Волохова; сцены с участием Крицкой и Райского занимают в романе место развлекательных интерлюдий или интермедий, подобных тем, что исполнялись в театре эпохи Возрождения. Опираясь на теорию драмы, автор статьи показывает, что отдельные эпизоды с участием Крицкой и Райского выстроены Гончаровым по законам сценического действия, а связанный с ними сюжет вполне соотносим с современными писателю водевильными сюжетами, сохранившими память о театре дель арте. В результате анализа сделан вывод об органичном соединении в романе «Обрыв» эпического и драматургического начал.
Эпический роман, комическая героиня, мировая культура, водевильный сюжет, эпос и драма
Короткий адрес: https://sciup.org/149139227
IDR: 149139227 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_124
Текст научной статьи Водевильный сюжет в романе И.А. Гончарова "Обрыв"
О героинях романов И.А. Гончарова немало сказано исследователями, однако имя Полины Карповны Крицкой редко встречается в работах о писателе. В тех же случаях, когда авторы все-таки упоминают о ней, характеристика героини, как правило, сводится к следующему: «пародийный персонаж», «молодящаяся провинциалка, претендующая на признание ее особого женского обаяния» [Черюкина 2008, 180; Иванова 2008, 190]; «окарикатуренный» персонаж [Лоскутникова 2011, 103-108]. «модница и сплетница» [Цейтлин 1950, 244]. В большинстве своем исследователи в анализе образа героини не идут дальше того, что сказал о ней сам писатель в статье «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» [Пруцков 1962, 198]. Гончаров определил ее образ как своеобразный антипод двум главным героиням: «Итак, и Бабушка, и Вера обе увлеклись; но кто и ту и другую назовет падшими? И пали ли они? Не в сто ли раз более падшая женщина Полина Карповна Крицкая, которую я, к сожалению, изобразил в карикатуре и которая ни разу не провинилась в факте? Она глупа, но есть множество с блестящим умом женщин, которые и этот ум и все женские чувства, начиная с чувства стыда, истратили еще в девичестве по мелочи, и развращены и умом, и сердцем, и воображением и которые стараются только sauver les apparences [соблюдать видимость приличия (франц.^» [Гончаров 1952, 133-134]. Однако обращение к анализу образа Крицкой, осмысление места героини в сюжетном действии произведения поможет уяснить такие особенности эпоса Гончарова, как присутствие в нем комедийного, драматургического начала и своеобразие обращения к мировой культурной традиции.
Имя Крицкой, как и других героев Гончарова, несомненно, говорящее, оно может происходить от разных имен: Павла, Аполлинария, Пелагея. Значение имени Павла - «малая» [Жития Святых 1999, 692] вполне соотносимо с героиней: в развитии сюжета романа она играет малозначительную роль. Имя Аполлинария - «Аполлону посвященная» [Жития Святых 1999, 689] рождает ассоциации с миром античности, поэзии, красоты и искусств, поклонницей которых на протяжении романа героиня не устает заявлять себя. С этим миром связывает Крицкую и ее фамилия: остров Крит, от названия которого, видимо, она образована, признан древнегреческой мифологией родиной отца всех богов и в том числе Аполлона - Зевса. Мифологическая история острова необыкновенно богата, и преобладают в ней, пожалуй, любовные сюжеты, что тоже имеет прямое отношение к
героине, настойчиво окружающей себя поклонниками ее увядающей красоты. Ей хотелось бы вечного поклонения, как эталону красоты в мировой культуре Аполлону. Однако житие святой Аполлинарии, отвергшей замужество и посвятившей всю себя небесному жениху [Жития Святых 1999, 15], никак не соответствует образу жизни Крицкой.
Происхождение имени Полина проясняется, когда Нил Андреевич Тычков в скандальной сцене обеда у бабушки Бережковой открывает перед многочисленными гостями ее истинное имя, называя Крицкую Пелагеей, что означает «морская» [Жития Святых 1999, 692]. Видимо, Тычков тем самым стремится унизить Крицкую, намекая на «море грехов» святой мученицы Пелагеи, до покаяния бывшей «директриссою плясуний в Антиохии и развратною женщиною» [Жития Святых 1999, 513]. Такая характеристика вполне соотносима со словами автора о Крицкой как о падшей женщине, с неизменным мнением о ней бабушки Бережковой как о «бесстыднице». Крицкая не подозревает, что произносимое ею на французский манер собственное имя «Pauline» в глазах читателя ее тоже компрометирует, поскольку в начале романа такое имя уже звучало: так зовут молодую любовницу Николая Васильевича Пахотина, одну из тех женщин, о которых не желают и слышать его добропорядочные сестры [Гончаров 2004, 24].
Впервые в романе Крицкая является в воспоминаниях Райского о его поездке в Малиновку в студенческие годы. В дом к Полине Карповне его привезла бабушка, делавшая визиты ко всем значительным людям в городе, чтобы показать им своего внука, хозяина Малиновки. Тогда Крицкая была еще молода, считалась «местной львицей» [Гончаров 2004, 81], был жив ее муж. Принимая гостей, она откровенно кокетничала, а прощаясь, поцеловала юного студента. Мнение внука и бабушки по этому поводу разделились: «Бесстыдница, беспутная! и ребенка не пропустила!» - ворчала бабушка дорогой.
Райский же был смущен. Молодая женщина, белая шея, свобода в речах и смелые взгляды подействовали на воображение мальчика. Крицкая казалась ему какой-то светлой богиней, королевой... «Армида!» - вслух, забывшись, сказал он, внезапно вспомнив об “Освобожденном Иерусалиме”» [Гончаров 2004, 82].
Об одной из героинь своей поэмы «Освобожденный Иерусалим» Ар-миде Торквато Тассо пишет: «На всем востоке пальма первенства за нею По красоте и прелести» [Торквато Тассо]. История Армиды - это история племянницы дамасского принца, засланной в стан крестоносцев-христиан, чтобы влюбить в себя храбрейших рыцарей и помешать им в освобождении Иерусалима. На этом пути Армида на короткий срок добивается успеха, как и Крицкая, завладевшая воображением юного Райского.
Уже в этой сцене обнаружится родственность образов: оба героя в романе выступят как поклонники и «проповедники» любви. Но если тема Райского - любовь-страсть, то тема Крицкой - любовь-обожание. Проповедуя любовь-страсть, Райский не добивается успеха у Беловодовой, Мар-

финьки, Веры. Показывая переживания, страдания героя по этому поводу, автор в то же время смеется над ним: как только Райский начинает проповедовать строгую мораль и призывать к исполнению супружеского долга Ульяну Андреевну, так ему против собственной воли приходится оказаться в роли сатира рядом с нимфой. Любовь-страсть с ее неприкрытым физио-логизмом в Марине и Ульяне Андреевне далека от идеала любви поэта и художника Райского. На фоне этих героинь выглядит более привлекательной Крицкая с ее игрой в любовь-обожание. Источником комизма в освещении этого образа становится не только доходящая до детской наивности ограниченность героини, но и то обстоятельство, что со своим пониманием любви Крицкая опоздала на несколько веков. Ее идеал платонического рыцарского поклонения Прекрасной Даме остался в Средневековье и высмеян в культуре нового времени. То, что этот идеал скомпрометирован в глазах Райского, доказывает и его полунасмешливое отношение к истинному рыцарю Прекрасной Дамы Титу Никонычу Ватутину до тех пор, пока не раскроется перед ним глубокий драматизм отношений Ватутина и Татьяны Марковны Бережковой.
Крицкая представляет себя светской красавицей, жаждущей рыцарского поклонения. Она втягивает в свою игру наивных молодых людей, «заезжих студентов, прапорщиков, молодых чиновников», таких как одержимый «кадетским аппетитом и институтскою робостью» «заезжий юноша, Michel Рамин», который «сопровождает барыню везде, таская шаль, мантилью и веер за ней» [Гончаров 2004, 243]. Крицкая считает, что таким способом преподает молодым людям урок светского общения: «...Ей до смерти хотелось, чтоб кто-нибудь был всегда в нее влюблен, чтобы об этом знали и говорили все в городе, в домах, на улице, в церкви, то есть что кто-нибудь по ней “страдает”, плачет, не спит, не ест, пусть бы даже это была неправда» [Гончаров 2004, 243]. Главная цель ее игры - художник и артист, представитель петербургского света Райский. Его вымышленная самой героиней влюбленность тешит ее самолюбие и, как кажется Крицкой, поддерживает ее репутацию в городе.
От своей роли Прекрасной Дамы Полина Карповна не отступит, «честь» свою не запятнает. Знакомя читателя с героиней, автор, как бы мимоходом, дает такую «справку»: «Полина Карповна была покойного темперамента: она не искала так называемого “падения” и измены своим обязанностям на совести не имела» [Гончаров 2004, 243]. В этом смог убедиться однажды навестивший ее Райский. Любопытство подталкивало его понять, «что ж она такое». После попытки героя перейти к «решительным действиям», «она замахала руками в непритворном страхе, встала с кушетки, подняла стору оправилась и села прямо», просила пощадить, не губить ее, а когда он собрался уходить, «по-видимому, была довольна, что он уходит» [Гончаров 2004, 435-436]. Райский едва сдерживает смех, «наслаждаясь этой сценой»: глупая и не раз раздражавшая его игра в любовь Крицкой оказывается достойной уважения артиста по причине ее нравственной и эстетической оправданности.

Очарованному обаянием красивой молодой женщины, «Армиды», студенту Райскому через много лет действительно предстоит выступить в роли ее «рыцаря». Писатель не отказывает «карикатурной» [Гончаров 2004, 245] Крицкой в возможности встать в один ряд с дорогими ему героинями романа, предоставляя ей право дать «урок» даже Татьяне Марковне. Во время званого обеда бабушка, как и все ее гости, с деланным подобострастием ведет себя с Тычковым. Законы гостеприимства заставляют ее изображать перед ним почтительность и вежливость, она принуждает к такому поведению и внуков. И только Крицкая, едва появившись, демонстрирует категорическое неприятие этого жестокого и грубого, зазнавшегося взяточника и плута. Он мстит ей, не желающей унизительно подыграть ему, прилюдно оскорбляя и будучи уверен, что никто из присутствующих не посмеет перечить ему. В защиту этой «карикатурной» женщины Райский скажет Тычкову: «Ну, ветреность, легкомыслие, кокетство еще не важные преступления <...> а вот про вас тоже весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег да обобрали и заперли в сумасшедший дом родную племянницу...» [Гончаров 2004, 376]. Бабушка поддержит внука и отстоит его перед взбешенным чиновником, а позднее сочтет необходимым отправиться к Крицкой с извинениями. Заступничество Райского Крицкая расценит как истинно рыцарское поведение, каковым оно и является: «.. .Он мой рыцарь и навсегда, что я его вечная, послушная раба!» [Гончаров 2004, 394], - напишет она Вере.
Вступившись за Крицкую, Райский не кривит душой: он, как и Вера, Марк Волохов, на стороне новых жизненных принципов, отрицающих светские условности, отживших норм поведения и общения между людьми. И в этом Крицкая - их союзница. Она радостно поддерживает Райского в его стремлении к свободе от правил поведения в доме бабушки-«деспотки»: «Браво, браво! - с детской резвостью восклицала Крицкая. <...> Мсье Райский поэт, а поэты свободны, как ветер!» [Гончаров 2004, 215]. А потому бабушка, привечая Крицкую в своем доме, боится развращающего влияния обманчивой привлекательности не только ее ласкательного поведения, но и «вольных» суждений. В «остроте» слов Крицкой бабушке слышится фальшь, обольщающая ложь: «Острота фальшива, принарядится красным словцом, смехом, ползет, как змей, в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его, а когда ум помрачен, так и сердце не в порядке. Глаза смотрят, да не видят или видят не то...» [Гончаров 2004, 317],- вразумляет Татьяна Марковна Марфиньку.
Сравнивая Крицкую с Ульяной Андреевной, Райский, признается себе, что «ему легче казалось сносить тупое, бесплодное и карикатурное кокетничанье седеющей Калипсо, все ищущей своего Телемака, нежели этой простодушной нимфы, ищущей встречи с сатиром...» [Гончаров 2004, 473]. В этих размышлениях героя всплывают воспоминания об очень популярном в XIX в. романе Франсуа Фенелона «Путешествие Телемака» (1699 г). В XVIII XIX вв. в России было осуществлено несколько переводов романа, которые не раз переиздавались. Стихотворное переложе-
ние «Тилемахида или Странствие Тилемака сына Одиссеева» осуществил В.К. Тредиаковский (1766 г.), прославившийся как «Автор “Тилемахи-ды”». Роман Фенелона навеян «Одиссеей» Гомера, где рассказывается о том, как Одиссей по воле богов оказался на острове богини Калипсо, провел с ней в любовных утехах семь лет, но из любви к Пенелопе, по воле же богов, покинул Калипсо, которая тяжко страдала после разлуки с ним. Фенелон использовал эту историю и в травестированном виде перенес ее на судьбу сына Одиссея Телемака. Как известно, в «Одиссее» Гомера Калипсо и Телемак не встречаются, однако в «Путешествии Телемака» Фенелона рождается рассказ о посещении Телемаком острова Калипсо и любовном влечении богини к узнаваемо похожему на своего отца юному сыну Одиссея. Любовниками Калипсо и Телемак не становятся, история заканчивается жестокой ревностью богини к нимфе Эвхарисе и бегством Телемака с острова Калипсо.
История Телемака и Калипсо - один из вариантов вечного в мировой культуре сюжета о соблазнении мужчины женщиной. Это библейская история Иосифа и жены Потифара [Бытие, 39], Федры и Ипполита в «Федре» Еврипида, Энея и Дидоны в «Энеиде» Вергилия, Рамы и Шурпанак-хи в «Рамаяне», Оливии и переодетой в мужское платье Виолы в «Двенадцатой ночи» У. Шекспира, Белизы и Клитандра в «Ученых женщинах» Ж.Б. Мольера, Марселины и Фигаро в «Женитьбе Фигаро» П.О. Бомарше, Дианы и Теодоро в «Собаке на сене» Лопе де Вега, леди Белластон и Тома Джонса «Истории Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга и других. Уже само перечисление авторов и произведений говорит о том, что сюжет этот появлялся в мировой культуре в трагическом, драматическом и комедийном вариантах.
В русской литературе история любовного влечения женщины к молодому человеку, который не может или не хочет разделить ее привязанности, была воспринята преимущественно как выигрышный источник комических ситуаций и использована прежде всего в комической драматургии. К ней обратились Д.И. Фонвизин в «Бригадире» (Советница и Иван), И.А. Крылов в пьесах «Подщипа» (Подщипа и Слюняй) и «Урок дочкам» (Фекла, Лукерья и «маркиз Глаголь»), «Проказники» (Таратора и Ланце -тин), Н.В. Гоголь в «Ревизоре» (Анна Андреевна и Хлестаков), И.С. Тургенев в «Провинциалке» (Дарья Ивановна и граф Любин), а в драматическом варианте и в «Месяце в деревне» (Наталья Петровна и Беляев), Д.Т Ленский в водевиле «Лев Гурыч Синичкин» (Сурмилова и князь Ветринский) и др. В романе Гончарова «сюжет» Крицкой выстроен по тому же типу, что и в комической драматургии. Наблюдая за Крицкой, Райский решит, что она «не годится» ни в драму [Гончаров 2004, 241], ни «в роман: слишком карикатурна! Никто не поверит...» [Гончаров 2004, 245], она «играет наивно комедию» [Гончаров 2004, 297]. Крицкая действительно не романная героиня. Она лишь косвенно втянута в главную конфликтную ситуацию, образ ее комически статичен.
Увидеть образ Крицкой в контексте мировой культуры помогает и

«подсказка», данная Тычковым, который называет Крицкую Далилой [Гончаров 2004, 372]. Связь с этой старозаветной героиней можно усмотреть в относящемся к Райскому, запутавшемуся в ее юбках, сравнению в устах Полины Карповны: «лев в сетях» [Гончаров 2004, 298]. В библейской легенде описывается, как по наущению Далилы Самсона опутывали веревками, как сетями [Суд. 16, 7-12]. Пленником торжествующей Крицкой чувствует себя Райский:
«Пустите меня, ради Бога: я на свежий воздух хочу!.. - сказал он в тоске, вставая и выпутывая ноги из ее юбок.
-
- Ах, вы в ажитации: это натурально - да, да, я этого хотела и добилась! - говорила она, торжествуя и обмахиваясь веером. <...>
-
- Вы в плену, не выпутаетесь! - шаловливо дразнила она, не пуская его.
-
- Пустите меня: не то закричу!» [Гончаров 2004, 298].
Имя Самсона здесь не звучит, однако образ льва с этим героем в Библии вполне соотносим. В устах же Полины Карповны, представляющей себя «местной львицей», можно услышать намек скорее на образ влюбленного льва, героя басен Эзопа и Лафонтена, побудивших скульптора Гийома Гифса к созданию одноименной прекрасной статуи.
Образ Далилы предшествовал образам Иезавели и Саломеи, с них начинается история роковой женщины. Не просто светской, но роковой красавицей, которой подвластно сердце любого мужчины, хочет предстать перед окружающими Полина Крицкая. Отсюда ее стремление манипулировать избранниками с помощью флирта. «Черномазая старуха», «противная рожа!» [Гончаров 2004, 406], - называет ее Райский, испытывающий «ужас», боязнь «задохнуться» [Гончаров 2004, 394-395] рядом с ней, - и это позволяет представить Крицкую в образе уже не роковой женщины, но кровожадной вампирши: «Ужели она часто будет душить меня? <...> Куда спастись от нее? [Гончаров 2004, 245], - думает герой. О том, что Полина Карповна «вцепится» в Райского «и не скоро выпустит его из рук» [Гончаров 2004, 395], знает надеявшаяся на время избавиться от его навязчивого интереса Вера. В сценах преследования Райского улавливается явное сходство Крицкой с другой «роковой» для героя женщиной - Ульяной Андреевной, которая обманом заманивает его в свои сети, превращая их поединок в открытое единоборство, в котором Райский потерпел полное фиаско.
Все сцены с Крицкой в романе - сцены комические, и в них она скорее напоминает не «роковую женщину», а героиню комедии дель арте - простую девушку, одетую в красивое пышное платье, а позднее - в платье из заплат, на итальянскую Фантеску, выступавшую на сцене «как Арлекин в юбке» [Дживелегов 1954, 129]. С этой героиней сближает Крицкую «неблагородное», недворянское происхождение: Татьяна Марковна указывает на него, когда противопоставляет ей и ее покойному мужу, «чиновнику из палаты» [Гончаров 2004, 215], своих родовитых дворянских предков.

Не случайно и то, что одну из служанок в доме бабушки зовут Пелагеей, что можно воспринимать как указание на некую простонародность имени героини. Наряд Крицкой, как у Фантески, и пышен и комичен одновременно: «разряженная женщина, в кисейном платье, с весьма открытой шеей, с тонким кружевным носовым платком и с веером, которым она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко» [Гончаров 2004, 212]. Автор не раз повторяет в описаниях ее нескромных нарядов кружева, кисею, бантики, цветы, пудру на лице и локонах, розовые ленты, открытые шею и грудь, плохо застегнутые на груди крючки. А.К. Дживелегов пишет: «Фантеска первоначально изображалась как деревенская дуреха, при этом подчеркивались ее честность, порядочность и хорошее настроение. <...> Маска подчеркивает, что Фантеска не хочет идти по торной дорожке, где мимолетные радости превращают девушку в куртизанку <...> Во Франции она превратилась в типичную субретку, Коломбину» [Дживелегов 1954, 129]. Если невиновность Крицкой «в факте» можно соотнести с Фантеской, то поведение ее больше напоминает соблазнительницу Коломбину: томное жеманство, кокетливая, «плутовская» игра глазами и веером, «дрыганье» «не без приятности “ножкой”» [Гончаров 2004, 435); она «ловила взгляд Райского» [Гончаров 2004, 218] и намекала на какие-то «два взгляда» [Гончаров 2004, 220, 242].
Для каждой маски дзанни характерен свой язык, диалект. Полина Кар-повна превращает манеру речи в «условные приемы кокетства»: она притворно «вздыхала, возводила глаза к небу, разливалась в нежных речах» [Гончаров 2004, 243]. От других героев ее речь отличает пришепетывание, постоянное использование «плохого» французского языка, «языка любви». Ее реплики на французском, повторяющиеся почти в каждой сцене, неизменно комичны, их смысл всегда один: они побуждают избранника быть смелее, не томиться от желания признаться ей в любви.
Очевидная глупость и навязчивость Крицкой рождали у Райского мысль: «Боже мой! Какая противная: ее прибить можно!» - со скрежетом думал он, опять впадая в ярость», - а общение с ней приводило его к желанию «пустить в нее папками и тетрадями» [Гончаров 2004, 297] и не вызывало сострадания даже в том случае, когда во время сеанса позирования героиня по его вине упала от изнеможения. Подобного рода отношения возможны между персонажами дзанни, независимо от пола партнера «угощавшими» друг друга палочными ударами. В комедии дель арте использовалось и множество других комических приемов: лазанье по лестнице, стрельба из пистолетов, хождение в потемках. Особенно популярны были «сцены в ночи»: комические столкновения, неузнавания [Дживелегов 1954, 188]. Ночная сцена на краю обрыва, когда ошеломленный увиденным в беседке свиданием Веры и Марка Райский встречается с жаждущей его любви Крицкой, грубо хватает ее за руку и тащит к обрыву, а она «завопила... в страхе и не на шутку испугалась», кричала: «...я упаду, мне дурно...» [Гончаров 2004, 624], вполне соответствует стилю комедии дель арте.
Участие дзанни в театральных постановках состояло в том, чтобы заполнить интервалы между действиями. Дзанни со своим комическим передразниванием трагических героев или просто нелепым кривлянием вторгались в развитие трагического сюжета, разряжая его напряжение, отвлекая и развлекая зрителей. Такие комические заставки, интермедии или интерлюдии исполнялись в театре Возрождения «между актами спектакля для иллюстрирования или варьирования тональности пьесы, во время смены декораций и обстановки» [Пави 1991, 123]. В то же время «поэтическую сторону комедии дель арте определяли идеализированные образы влюбленных. <...> Борьба за любовь молодой пары составляла главное содержание сценического действия» [История зарубежного театра 1971, 127]. С театральной сцены Гончаров перенес подобного рода действие на страницы своего эпоса. Пруцков писал о том, что в романе параллельно даны «действительная страсть, возбуждающая большие вопросы жизни, ведущая к трагической развязке, и пустая, пошлая игра» [Пруцков 1962, 198]. История Веры и Марка - это та самая вечная, поэтическая, романтическая история двух влюбленных, соединению которых мешают чаще всего социальные обстоятельства или враждебные отношения семей - заметим, что тот и другой мотив в истории героев присутствует. Трагедию Веры предчувствует бабушка [Гончаров 2004, 462], трагедией назвал историю Веры Райский [Гончаров 2004, 636].
Сцены с Полиной Карповной в романе исполняют роль интермедий или интерлюдий, помогающих разрядить напряжение в душевном состоянии или отношениях героев и дать возможность читателю развлечься. В этом смысле значимо то место, которое этим сценам отводится - чаще всего они даются в конце глав. В гл. 9 ч. 2 романа присутствие Полины Кар-повны сдерживает гнев бабушки, обидевшейся на внука, в первый же день ушедшего из дома и не почтившего ее присутствием за обедом. Комической сценой с героиней заканчивается гл. 12 ч. 2: Крицкая появляется после рассказа о «живой натуральной драме» [Гончаров 2004, 240] Марины и Савелия. По тому же типу строится и гл. 16 ч. 2: после огорчительного для Райского знакомства с Верой является Крицкая. В гл. 5 ч. 3 внезапное появление Крицкой помогает Вере избавиться от настойчивых расспросов Райского об авторе письма на синей бумаге. В этой главе и гл. 7 ч. 3 Вера использует Крицкую, чтобы избежать «любовного шпионства» [Гончаров 2004, 348] Райского. На званом обеде в доме бабушки (ч. 3, гл. 2) приезд Крицкой провоцирует публичное осмеяние Тычкова. Трагедия и фарс переплетаются в сцене встречи Райского с Полиной Карповной у обрыва в ночь рокового свидания Веры и Марка (гл. 14 ч. 4). По законам водевиля выстроена автором сцена прощального свидания героев в гл. 21 ч. 5.
В русском театре роль сцен, исполнявшихся для развлечения, на «съезд» и «разъезд» публики, взял на себя водевиль [Мешеряков, Сербул 2011, 7]. Водевиль начала XIX в. - это тот «промежуточный жанр», который впитывает «элементы других жанров», ассимилирует «по принципу смежности признаки комической оперы, дивертисмента, интермедии, бла-
городной и сатирической комедий, мелодрамы и даже трагедии» [Мещеряков, Сербул 2011, 13]. Водевиль связан с народной театральной площадной культурой, водевильные амплуа сохраняли в себе память о комедии дель арте. Гончаров оказался в числе тех авторов, в творчестве которых нетрудно обнаружить влияние не только комедии, но и водевиля [Шахматова 2008, 70-76]. Исследователи не раз показывали, как в его произведениях «взаимопроникают две системы воспроизведения мира: комедийная и романная. Комедия жизни и эпос жизни дополняют друг друга, образуя оригинальное и самобытное целое романа, организуя ряд противоположных точек зрения на одни и те же происходящие события» [Шаврыгин 1994. 200]. Н.В. Калинина убеждена: «Литературный стиль Гончарова генетически связан с принципами построения драматического текста и театрального представления» [Калинина 2008, 4].
Эпизоды с участием Крицкой в романе укладываются в определенный сюжет, вторым действующим лицом в котором является Райский. «Комедию», а точнее - водевильный сюжет - герои разыгрывают вдвоем. Первая встреча еще юного студента Райского и Крицкой станет завязкой их комического сюжета, которым «прошиты» все части романа. У каждого из героев в этой комедии своя линия поведения. Героиня исполняет роль глупой стареющей обожательницы, во всех сценах она устремлена навстречу герою. Она сумела захватить его воображение при первой встрече и убеждена в своем успехе во всех последующих. В сцене с Тычковым она не без оснований воспринимает Райского как героя и рыцаря, поклоняющегося прекрасной даме. В такой его роли при себе она не сомневается до самого отъезда Райского, выставляя его мнимые ухаживания как предмет гордости перед всем городом. Райский же разыгрывает в этой «комедии» роль мужчины, убегающего от ухаживаний женщины: прежнее очарование «Армидой» при первой же встрече в доме бабушки сменится желанием избавиться от назойливой «напарницы по сюжету». Примечательно, что большинство сцен с Крицкой заканчиваются откровенно нетактичным поведением Райского - его безмолвным уходом или побегом. Если Райский безуспешно «домогается» любви Веры, то Полина Карповна также безуспешно «домогается» любви Райского.
Включение в эпическое повествование комической героини рождает для нее особые приемы изображения, больше характерные для драмы, чем для эпоса. Крицкая в романе почти лишена авторского повествования, образ ее дается через описания внешности, действия и диалог, эпизоды с ее участием строятся по типу сцен из комического представления. Речь Крицкой в этих эпизодах превращается в повторяющиеся реплики и сопровождается краткими авторскими ремарками. Примечательно, что другие герои в диалогах с Крицкой участвуют мало, они охарактеризованы преимущественно приемами эпического повествования. Райский, к которому прежде всего обращается героиня, в этих сценах крайне немногословен, чаще всего автор характеризует его безмолвными замечаниями «про себя», подобными «репликам в сторону»: «Черт знает что такое!»
[Гончаров 2004, 242], - думал Райский, глядя на нее. Появление Крицкой вызывает «болезненное» восклицание героя: «Боже мой!» [Гончаров 2004, 296]. На приглашение поехать к ней, он, «глядя на нее, учтиво молчал» [Гончаров 2004, 244]. У приступившего к портрету Крицкой Райского «шевельнулось. .. в душе»: «У, какая противная рожа! <.. .> вот постой, я тебя изображу!» Райский вступает в диалог с Крицкой только в тех сценах, когда он сам заинтересован в ней. Все его реплики в адрес героини можно назвать «вынужденными», а чаще они заменены жестами и поступками. Карикатурность ее внешнего облика и поведения отпугивает героя: «Он сбоку поглядел на нее» [Гончаров 2004, 213], «его коробило от ее присутствия» [Гончаров 2004, 216]; рисуя ее портрет, он «все злобнее и злобнее глядя на “противную рожу”», «так крепко нажимал мел, что куски его летели в стороны» [Гончаров 2004, 406]. В ответ на призыв героини сесть рядом с ней «Райский внезапно разразился нервным хохотом и сел подле нее» [Гончаров 2004, 297]. Все эти жесты и поступки, своеобразные мимические действия вполне уместны в интерлюдии [Пави 1991, 123] или водевиле. Подобное построение сцен предполагает активизацию читательского или зрительского интереса, «приближает» героев к читателю. В.Е. Хализев пишет об этом: «Жизнь, показанная в драме, как бы говорит от собственного лица. Действие здесь запечатлевается с большей достоверностью, чем в эпопеях...» [Хализев 1986, 43].
Одной из особенностей эпических романов Гончарова является появление в них сцен, в которых герои намеренно прибегают к игровому поведению, те. к сокрытию собственной личности, выступая как бы в чужой маске. Об игровом поведении героев Гончарова не раз писали исследователи. «Обломов, Райский и Волохов играют с чувством и страстью», -говорит в своей монографии Пруцков [Пруцков 1962, 188]. О «мысленной игре в счастье» Обломова и донжуанстве как своеобразной игре для Ивана Савича Поджабрина и Райского писал и М.В. Отрадин [Отрадин 1994, 12-13, 20]. Особое внимание игровому поведению героев всех трех романов писателя, а в особенности Райского, уделяет Е.А. Краснощекова [Краснощекова 1997, 94, 393]. Игровое, театральное поведение Райского отмечает А. Молнар [Молнар 2013, 425-435]. В творчестве Гончарова подобный прием с «переодеванием» героя, с использованием чужой маски особенно наглядно представлен в позднем очерке «Литературный вечер» (подробно об этом см.: [Ермолаева 2020]), где в маске появляется актер. Такая ситуация объяснима симпатией писателя к театру и драматургии. Им посвящены три из его немногочисленных критических статей: «Мильон терзаний», «Опять “Гамлет” на русской сцене», «Материалы для статьи об Островском». Он высоко оценивал пьесы А.Н. Островского, А.К. Толстого, А.Ф. Писемского, нередко посещал театры, дружески общался с актерами И.И. Монаховым и М.Г Савиной, почитал талант А.А. Нильского, И.А. Горбунова, искусство чтеца Писемского. Лицедейство не было чуждо натуре и самого Гончарова, достаточно вспомнить «псевдонимы» или «авторские маски» - «де Лень», «путешествующий Обломов», которые он
присваивал себе [Филиппова 2017, 359]. И не случайно, что в его романах герои не раз прибегают к попытке спрятать свое лицо под чужую маску
Так, «артист» Райский в общении с Аяновым, Беловодовой, Наташей, опекуном, бабушкой, Марфинькой, Верой, бабушкой, Егоркой, Козловым, Ульяной Андреевной, Марком, Тушиным выступает в разных ролях, нередко, может быть, даже незаметно для самого себя меняя маски. Чаще других его заставляет вступить в игровую ситуацию Вера, которая называет героя лисой. Она сама играет с ним, прячет свое лицо, напоминая ему то кошку, то птицу, то ящерицу, то змею... Игра Веры всегда связана с ситуацией обмана и в конечном счете приводит к очень драматичным последствиям для нее, для бабушки, Райского, Тушина. Ее грехопадение, необходимость скрыть истинные его обстоятельства, в финале романа вынуждают взять на себя чужую роль, «скрытничать» и бабушку, и Тушина, и Райского. Сцены объяснений между этими героями полны драматизма.
Крицкая в романе - это тоже героиня в маске, маска светской львицы как будто приросла к ней. Лишь однажды, во время сеанса позирования перед художником, приоткрывается ее истинное лицо немолодой и некрасивой слабой женщины, которой уже никого не обмануть своей, пусть и привлекательной маской. Появление Полины Карповны в доме бабушки привносит в его жизнь игровое начало. Играя сама, она вовлекает в свою игру и бабушку, которая вынуждена исполнять роль радушной хозяйки, и Веру, и Марфиньку, изображающих дружелюбие и приветливость. Но если бабушка каждый раз страдает от навязанной ей роли, то для Веры и Марфиньки присутствие Крицкой - возможность развлечься. Особенно забавны для них отношения Крицкой и Райского, при которых они выступают в роли насмешливых зрительниц. Однако, в отличие от бабушки и Веры, Райский не желает подыгрывать Крицкой, и это усиливает комизм ситуаций. Оказавшись в роли осмеиваемого, Райский страдает и злится на наивно комичную Крицкую. Однако неизменной готовностью героини к игре Райский воспользуется во время последнего ее посещения, описанного в гл. 21 ч. 5. Теперь у героя есть своя цель: ему необходимо скрыть перед Крицкой, а значит, и перед всем городом, истинный смысл того, что произошло с Верой на дне оврага. Описанная в этой главе сцена выстроена автором в соответствии с законами драмы: она «замкнута» во времени и пространстве, на первом плане в ней диалог героев, в движении которого легко обнаружить завязку, перипетии в развитии действия, развязку.
О том, что Райский является к Крицкой в чужой маске, говорят уже его первая, вполне театральная реплика: «Мой прощальный визит!», поклон и остановившийся на героине «сладкий взгляд» [Гончаров 2004, 749]. Читателю хорошо известно, что все это не соответствует истинному отношению Райского к хозяйке дома: он пришел к ней, как и обещал бабушке, дать «сеанс» «этой старой чучеле» [Гончаров 2004, 740]. Героиня тщательно подготовилась к встрече, о чем говорит типичный для водевиля комически охарактеризованный интерьер, призванный сыграть роль «любовного гнездышка»: опущенные шторы, накуренные комнаты. Соблазни-
тельница, «в белой кисейной блузе, перехваченной поясом, с широкими кружевными рукавами, с желтой далией на груди, слегка подрумяненная, встретила его в своем будуаре» [Гончаров 2004, 749]. Видимо, не очень рассчитывая на свои чары, она приготовила для гостя изысканное угощение: на накрытом у дивана столе «стоял полный, обильный завтрак. <...> В двух хрустальных тарелках была икра» [Гончаров 2004, 749; о «подтекстах» угощения Крицкой см.: Иванова 2008]. Именно икра, а не хозяйка дома, и вызвала притворный восторг гостя: «Даже затрясся весь, как увидал!» Райский в духе водевильного жанра прибегает к вожделенным взглядам и двусмысленным комплиментам одновременно в адрес хозяйки и еды: «Какая вы кокетка, Полина Карповна: даже котлетки без папильоток не можете кушать!» [Гончаров 2004, 749]. Оба героя вступили в игру, завязка в этой сцене состоялась.
Радуясь тому, что гость поддержал ее игру, Крицкая пускает в ход весь свой арсенал соблазнительницы. Здесь и чувствительные восклицания, и упреки: «Не может быть! Вы пошутили: жестокая шутка!» И притворный испуг, шутливые приказания: «Нет, нет, скорей засмейтесь, возьмите назад ужасные слова!..» И двусмысленно звучащие слова о любви: «Я знаю, что вы любите... да, любите...». И намеренно нескромное физическое сближение: «сунула свою руку ему под руку», «взяв его за руку, усадила рядом с собой, шаловливо завесив его салфеткой» [Гончаров 2004, 749]. И нежные, любовные взгляды. В какой-то момент такая близость героини, ее наступательно сть пугают Райского: «Эге! какой “abandon!” [непринужденность - франц.] - даже страшновато...» - подумал он опасливо» [Гончаров 2004, 749]. Эта фраза «про себя» подобна водевильной «реплике в сторону». Однако из предыдущего романного повествования читатель знает, что Крицкая не допускает близости с мужчиной, ее любовная игра дальше слов и жестов не заходит.
Водевильный характер эпизода подкрепляется вроде бы обоюдным желанием героев «улыбки, шутки, смеха <.. .> Прочь печаль! Vive Г amour et lajoie! [Да здравствует любовь и веселье! (франц.)]», обязательным для жанра переходом к французскому языку, к «легкому диалогу» со вздохами и восклицаниями: «Ах! что вы хотите со мной делать?», обращением к поэзии: «Ах, и трюфли - “роскошь юных лет”! - petits-fours, bouchees de dames!» [Гончаров 2004, 749]. Кажется, оба героя готовы перейти к куплетам и танцам, без которых не обходился водевиль [Бескин 1929, 21]. Вся наигранно-романтическая любовная ситуация комически «возрастает» по причине разыгравшегося аппетита героя.
Однако каждый из ее участников имеет свои цели. Крицкая чувствует себя участницей любовного поединка, она должна вызвать Райского на откровенность: «Снимите маску, полноте притворяться...» [Гончаров 2004, 450]. Желая вырвать у героя признания в любви, она несколько раз подливала вина, слушала его полушепот, «подставляла свое ухо к его губам» [Гончаров 2004, 752]. Райский и дальше обманывает Крицкую, изображая физическое и душевное страдание, говоря о духоте, прося «сквоз-
ного ветра», полусловами, полунамеками убеждая во влюбленности в нее и разочаровании в Вере, ореолом таинственности овевая рассказ о неудавшемся сватовстве Тушина. Герой делает вид, что покорен чарами героини - действие в сцене достигает кульминации. Подогреваемая тщеславием («Она гордо оправилась, взглянула на себя в зеркало и выправила кружево на рукавах» [Гончаров 2004, 751]), Крицкая принимает его раскаяние в любви к этой «бедной», «деревенской девочке» за правду [Гончаров 2004, 750] и знак благосклонности к ней, светской даме. Но ничего нового, кроме того, о чем уже говорил весь город, Райский не сообщил, и в лице героини «было полнейшее разочарование» [Гончаров 2004, 753].
В какой-то момент игра Райского, в его собственном понимании, переходит в фарс: «...Не будет ли сочинять? кажется, довольно?» [Гончаров 2004, 752-753], - бросает он «реплику в сторону» и уже готов расстаться с хозяйкой. Он исполнил задуманное - Крицкую вполне убедили его слова. «Смоделированная» им ситуация разрешилась, как он и задумал ее. Казалось бы, развязка состоялась, однако именно в этот момент вступает в свои права парадоксальность развития игровой ситуации: «Игровое настроение по своему типу изменчиво. В любую минуту может вступить в свои права “обычная жизнь”, то ли от какого-либо толчка извне, который нарушит игру, то ли от какого-нибудь поступка вопреки правилам, а то и из-за идущего изнутри ослабления накала игры, усталости, разочарования» [Хейзинга 1997, 39]. Водевильная фабула приобретает новое направление - Крицкая упоминает про сплетню о бабушке. И в сцене происходит перелом, рождается новая завязка. Теперь Райский слушает, «притаив дыхание и навострив ухо», «нежно» и «вкрадчиво», но при этом настойчиво допытывается, «добирается» [Гончаров 2004, 753] до правды. Открывшаяся тайна бабушки заставляет героя сбросить маску, почувствовать себя побежденным: он «изменился в лице», «от волнения вздохнул всей грудью», нахмурился и, отказавшись от очередной порции вина, «схватил шляпу и быстро ушел» [Гончаров 2004, 755]. Развязка, финал сцены неожиданны, она как будто оборвана. «Неучтивое» в отношении к хозяйке дома поведение героя автор оставляет без комментария: видимо, он (а с ним и читатель) вполне согласен с Райским в том, что героиня это заслужила.
Итог сцены-поединка соответствует законам развития драматического действия, в результате которого каждый из его участников «расплачивается... за все им сотворенное, пожинает плоды своих действий, сталкиваясь с результатами, которые... не совпадают с намерениями» [Косте -лянец 1976, 35]. Для Крицкой эта встреча с Райским - возможность еще раз убедиться во всесилии собственных чар и с чувством победительницы разнести по городу эту новость, но при этом ничего нового не сообщить о ночном свидании Веры. Здесь все построено на обмане и достойно осмеяния. Для Райского же итог этого «поединка» неожидан, ошеломителен, глубоко драматичен. Он приносит глубокие переживания не только герою, но и бабушке: по взгляду внука она поймет, что ее давний грех для него уже не тайна. Выстроенная как длинный комический диалог героев эта во-
девильная сцена в значительной степени «продвигает» развитие действия в романе, обеспечивая развязки его сюжетных узлов.
«Внутритекстовые связи эпоса и драмы в рамках одного литературного произведения бесконечно разнообразны и индивидуальны» [Калинина 2008, 16], - пишет Н.В. Калинина. Роман «Обрыв» в полной мере подтверждает справедливость этого замечания. Включение водевильного сюжета в эпическое произведение позволяет автору органично соединить трагическое и комедийное начала в эпосе. Образ главной участницы водевильного сюжета комической героини Полины Карповны Крицкой писатель многими нитями связывает с вечными образами и сюжетами в мировой литературе и искусстве: с Прекрасной Дамой, Армидой, Калипсо, Далилой, Фантеской и др. В характеристике образов, построении водевильного сюжета и отдельных сцен Гончаров опирается на многовековой опыт комедийного жанра: от комедии дель арте до русской комической драматургии XVIII - начала XIX в.
Список литературы Водевильный сюжет в романе И.А. Гончарова "Обрыв"
- Бескин Эм. Водевиль // Литературная энциклопедия. Т. 2. М.: Издательство коммунистической академии, 1929. Ст. 270-274.
- Гончаров И.А. Обрыв // Гончаров И.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 2004. Т. 7. С. 5-772.
- Гончаров И.А. Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» // Гончаров И.А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1952. Т. 8. С. 124-134.
- Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М.: Академия наук, 1954. 298 с.
- Ермолаева Н.Л. Очерк «Литературный вечер» в контексте творчества И.А. Гончарова 1870-х гг. // Два века русской классики. 2020. Т. 2. №° 3. С. 200-221. DOI: 10.22455/2686-7494-2020-2-3-200-221
- Жития Святых / сост. священник и законоучитель Иоанн Бухарев. М.: Отчий дом, 1999. 694 с.
- Иванова Н.П. Мотив еды в романе И.А. Гончарова «Обрыв» // И.А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 195-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск: Ника-дизайн, 2008. С. 185-192.
- История зарубежного театра: Театр Западной Европы. Ч. 1. М.: Просвещение, 1971. 360 с.
- Калинина Н.В. И.А. Гончаров и театр: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2008. 25 с.
- Костелянец Б. Лекции по теории драмы. Драма и действие. Л.: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, 1976. 159 с.
- Краснощекова Е.А. Иван Александрович Гончаров: мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 496 с.
- Лоскутникова М.Б. Ирония как пафос и стилеобразующий фактор в романе И.А. Гончарова «Обрыв» // Вестник центра международного образования московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. 2011. № 3. С. 103-108.
- Мещеряков В.П., Сербул М.Н. Герменевтический комментарий к произведениям мировой культуры и биографиям. Т. 1. Шуя: Шуйский государственный педагогический университет, 2011. 240 с.
- Молнар А. Игра в страсть в романе И.А. Гончарова «Обрыв» // Гончаров: живая перспектива прозы: научные статьи о творчестве И.А. Гончарова. Szom-bathely: University of West Hungary Press, 2013. С. 425-435.
- Отрадин М.В. Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1994. 168 с.
- Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. 483 с.
- Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1962. 228 с.
- Торквато Т. Освобожденный Иерусалим. URL: http://az.lib.ru/t/tasso_t/ text_0020.shtml (дата обращения: 25.02.2021).
- Филиппова Е.М. «Служба и служение» И.А. Гончарова (по материалам переписки) // Чины и музы. СПб.; Тверь: Издательство Марины Батасовой, 2017. С. 357-371.
- Хализев В.Е. Драма как род литературы. М.: МГУ, 1986. 259 с.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М.: Прогресс -Традиция, 1997. 416 с.
- Цейтлин А.Г. И.А. Гончаров. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 491 с.
- Черюкина Г.Л. «Талант - быть человеком»: роман И.А. Гончарова «Обрыв» как опыт художественной антропологии // И.А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 195-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск: Ника-дизайн, 2008. С. 177-184.
- Шаврыгин С.М. Традиции русской комедии первой половины 19 в. в «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова (И.А. Гончаров и А.А. Шаховской) // И.А. Гончаров: материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск: Стрежень, 1994. С. 196-203.
- Шахматова Т.С. Водевильное поветрие в русской литературе XIX века // Ученые записки Казанского государственного университете. 2008. Т. 150. Кн. 6. Гуманитарные науки. С. 70-76.