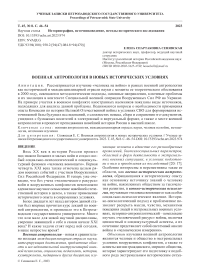Военная антропология в новых исторических условиях
Автор: Сенявская Е.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Историография, источниковедение и методы исторического исследования
Статья в выпуске: 8 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается изучение «человека на войне» в рамках военной антропологии как исторической и междисциплинарной отрасли науки с момента ее теоретического обоснования в 2000 году, освещаются методологические подходы, основные направления, ключевые проблемы и их эволюция в контексте Специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине. На примере участия в военном конфликте иностранных наемников показаны виды источников, подходящих для анализа данной проблемы. Поднимаются вопросы о необходимости применения опыта Комиссии по истории Великой Отечественной войны в условиях СВО для формирования источниковой базы будущих исследований, о сложностях поиска, сбора и сохранения эго-документов, ушедших с бумажных носителей в электронный и виртуальный формат, а также о месте военной антропологии в процессе преподавания новейшей истории России в высшей школе.
Военная антропология, междисциплинарная отрасль науки, человек на войне, методология, источники изучения
Короткий адрес: https://sciup.org/147242349
IDR: 147242349 | УДК: 93/94(100), | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.974
Текст научной статьи Военная антропология в новых исторических условиях
Весь ХХ век в истории России прошел под знаком больших и малых войн и создал особый социально-психологический и социокультурный феномен «человека воюющего». Первая четверть XXI века также отмечена целым рядом военных событий с участием Вооруженных Сил Российской Федерации. И теперь уже очевидно, что без учета «человеческого ракурса» войн и вооруженных конфликтов невозможно адекватное научное осмысление новейшей отечественной истории в целом, а также применение исторического опыта в современных условиях.
Более двадцати лет назад автором данной статьи был впервые прочитан курс лекций по военной антропологии, и произошло это в Петрозаводском государственном университете. Много это или мало для новой научной дисциплины, уверенно заявившей о себе в самом начале XXI века? И какие задачи стоят перед ней сегодня, в наше непростое время?
Военная антропология – новая и сравнительно молодая междисциплинарная отрасль науки, интегрирующая достижения, предметные области и исследовательский инструментарий военной психологии, социологии, педагогики, истории, культурологии, медицины и других дисциплин, изу- чающих человека в единстве его разнообразных проявлений, биопсихосоциальных параметров, областей и форм деятельности в экстремальных военных ситуациях, в условиях подготовки к ним и преодоления их последствий [20: 17]. Особенно интересны и перспективны такие ее области, как военно-историческая антропология, обращающаяся к историческому опыту как основному источнику знаний о человеке на войне, накопленных обществом за тысячелетия развития, и военно-историческая психология, изучающая «человека воюющего» как особое социально-психологическое явление. Историко-психологический подход к проблематике позволяет раскрыть мысли, чувства, механизмы поведения людей в экстремальных военных условиях, историко-антропологический – комплексно изучать «человеческий ракурс» войны, включая ценностный и социокультурный аспекты, а их сочетание представляет собой системный анализ войны в «человеческом измерении».
Объектом изучения военной антропологии являются человек и общество в экстремальных условиях вооруженных конфликтов, а также те аспекты жизни гражданского, мирного общества, которые характеризуют его подготовку к подобного рода экстремальным историческим ситуа-
циям и отражают их последствия. То есть историческим фоном данной проблематики являются подготовка общества и человека к войне, «вхождение» в нее, ход военных действий и «выход из войны». Центральный объект изучения – армия, прежде всего в военное, но также и в мирное время; не менее значимо изучение «человеческого измерения» всего общества, особенно в собственно военной ситуации. Специфика «человека в войне» как предмета изучения определяется «экстремальным режимом» существования общества в военных условиях, особым бытием индивидуума на грани жизни и смерти. Именно здесь во многом кроется источник понимания не только ряда ключевых причин военных поражений и побед стран, государств и народов, но и их истории в мирное – предвоенное и послевоенное время. Кроме того, военная антропология является важным ресурсом для понимания современности и социального прогнозирования.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВОЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ КАК ИСТОРИЧЕСКОЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТРАСЛИ НАУКИ
Первые методологические подходы к этой проблематике с точки зрения конкретно-исторических тем и сравнительно-исторических исследований российских войн XX века были заявлены еще с середины 1990-х годов [15], [21], [23]. Но сам термин «военная антропология» впервые прозвучал 19 апреля 2000 года на конференции «“Homo belli – человек войны” в микроистории и истории повседневности: Россия и Европа XVIII–XX веков» [19: 208–212], [28] в Нижнем Новгороде в пленарных докладах историка Е. С. Сенявской «Теоретические проблемы военной антропологии: историко-психологический аспект» [22] и филолога В. А. Фортунатовой «Военная антропология как наука о возможностях человека» [25]. Важным шагом в конституировании новой отрасли стало проведение 23 ноября 2000 года в Институте российской истории РАН (Москва) первого заседания круглого стола «Военно-историческая антропология: предмет, задачи, перспективы развития», в работе которого приняло участие более 30 специалистов из смежных областей знания, изучающих войну в «человеческом измерении» [14], а впоследствии выход в свет трех выпусков Ежегодника «Военно-историческая антропология» [5], [6], [7], в первом из которых была опубликована программная статья «Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки» [18], сразу получившая широкий отклик среди историков и культурологов [2], [3: 124], [9], [10], [11], [12], [26]. Так, искусствовед В. В. Виноградов отмечал:
«Исследования феномена войны в человеческой истории и культуре – одна из самых объемных тем в отечественной гуманитарной науке. В последнее десятилетие внимание к данной проблеме стало более пристальным. Интерес вызывают не столько истории войн, их социальные, политические, экономические и другие предпосылки и последствия, сколько “культура войны” как таковая. Изучается человек “военный”, особенности его поведения, оценка и восприятие событий, – таким образом, осмысливается специфика самой эпохи. В контексте научных поисков наиболее плодотворно в последнее десятилетие проявляет себя антропологический подход. Военно-историческая антропология уверенно заявила о себе как междисциплинарная отрасль научного знания, объединив усилия специалистов разных направлений» [4: 5].
Перед исследователями «человеческого измерения» войн, как правило, стоят очень близкие проблемы, независимо от того, какую страну они изучают, какую эпоху и даже в рамках какой научной дисциплины. Исследовательский процесс закономерно привел специалистов, работающих подчас в очень разных хронологических и конкретно-тематических рамках, к выводу, что все они так или иначе действуют в контексте единого направления или даже особой исследовательской области, относительно автономной в границах исторической науки. Само осознание этого обстоятельства, налаживание научных коммуникаций в рамках междисциплинарных, межстрановедческих и хронологически «сквозных» проектов дают принципиально новые результаты и в области обмена опытом, и в части его синтеза, позволяют проводить невозможные в иных условиях компаративные исследования, причем как в рамках социокультурной, этнокультурной и межрегиональной компаративистики, так и сравнительно-исторические исследования в хронологическом ракурсе [16].
В качестве методологической основы военной антропологии был предложен синтез идей и методологических принципов трех научных направлений – исторической школы «Анналов», философской герменевтики и экзистенциализма [17], [18]. Хотя это вовсе не означало, что данная отрасль науки должна оставаться «методологически закрытой» системой. Тем не менее основополагающими остаются такие постулаты, как осознание и понимание эпохи, исходя из нее самой, без оценок и мерок чуждого ей по духу времени, идея непосредственного проникновения в историческое прошлое, «вживания» исследователя в изучаемую эпоху, во внутренний мир создателя источника, метод познания духовных явлений через их психологическую реконструкцию, восстановления определенных исторических типов поведения, мышления и восприятия, при постоянном учете исторической дистанции между интерпретатором и текстом, всех связывающих их исторических обстоятельств, взаимодействия прошлой и сегодняшней духовной атмосферы, а также использование категории «пограничная ситуация», применимой к анализу мотивов, поведения и самоощущения человека в экстремальных условиях войны. Данное понятие было разработано в экзистенциальной философии М. Хайдеггера и К. Ясперса. Крайней формой проявления пограничной ситуации является бытие перед лицом смерти, когда все, что заполняет человеческую жизнь в ее повседневности, становится несущественным, происходит ломка привычных представлений о мире, прежней системы ценностей, и индивид начинает по-иному смотреть на себя и окружающую действительность.
Успешное применение в военно-антропологических исследованиях находят и основные принципы социальной истории , изучающей общественные процессы не «сверху», через официальный дискурс, а «снизу» и «изнутри», когда в центре внимания оказывается человек «как элементарная клеточка живого и развивающегося общественного организма» [24: 108–109], «в различных взаимосвязях и ситуациях, в социальной среде и в системе разнородных групп, в семье и в повседневной жизни» [22: 7].
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Среди основных направлений и ключевых проблем военной антропологии с самого начала наметились следующие [20]. Анализ и изучение: 1) «общего и особенного» в войнах, влияющего на психологию общества и армии; 2) ценностей, представлений, верований, традиций и обычаев всех социальных категорий в контексте назревания войны, ее хода, завершения и последствий; 3) взаимовлияния идеологии и психологии вооруженных конфликтов, в том числе идеологического оформления войны, механизмов формирования героических символов; 4) диалектики соотношения образа войны в массовом общественном сознании и сознании ее непосредственных участников; 5) эволюции понятий «свой-чужой» и формирования образа врага в войнах и вооруженных конфликтах; 6) проявлений религиозности и атеизма в боевой обстановке, включая солдатские суеверия как форму бытовой религиозности; 7) совокупности факторов, влияющих на формирование и эволюцию психологии комбатантов, их поведение в экстремальных ситуациях; 8) психологических явлений и феноменов на войне: психологии боя и солдатского фатализма, героического порыва и паники, психологии фронтового быта;
-
9 ) особенностей психологии рядового и командного состава армии, военнослужащих отдельных родов войск и военных профессий; 10) влияния социально-демографических параметров на психологию военнослужащих: возрастных характеристик, социального происхождения, жизненного опыта, образовательного уровня и др.; 11) особенности гендерной психологии, включая феномен массового участия женщин в войнах XX столетия; 12) повседневных практик, психологических особенностей и последствий пребывания в плену; 13) психологической специфики деятельности в тылу противника (в партизанском движении, в подполье, в агентурной разведке, в составе диверсионно-разведывательных групп); 14) военного опыта гражданского населения в глубоком тылу, в прифронтовой полосе, на оккупированных территориях, включая особенности детской памяти о войне; 15) проявлений посттравматического синдрома, проблем выхода из войны, способов адаптации комбатантов к послевоенной мирной жизни; 16) механизмов формирования и эволюции исторической памяти общества о военном прошлом, проблем ее сохранения при смене поколений.
Разумеется, этот перечень остается открытым. С началом Специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине 24 февраля 2022 года он уже существенно расширился и пополнился новыми сюжетами, так как многие явления, присущие данному вооруженному конфликту, в прежних войнах не встречались или носили иной масштаб и характер, что требует проведения специального сравнительно-исторического анализа. Например,
-
– проблема массового участия на одной из сторон конфликта иностранных наемников или тех, кто под них маскируется, являясь в действительности представителями вооруженных сил других государств, формально в конфликте не участвующих;
-
– новые виды и формы волонтерского движения (которые можно сравнить и провести параллели с шефским движением и сбором средств в Фонд Обороны периода Великой Отечественной войны);
-
– особенности освещения событий в эпоху Интернета (в том числе феномен независимых военкоров и военных блогеров);
-
– влияние новостного контента на настроения в обществе, включая пропагандистское воздействие антироссийских и фейковых сообщений, создаваемых и распространяемых Центрами информационно-психологических операций (ЦИПсО) противника, и способы противодействия им, то есть особенности информационнопсихологической войны в современных условиях;
-
– стратегии выживания гражданского населения в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения;
-
– проблемы беженцев и эвакуированных из зоны боевых действий (во всей их совокупности, от правовых и психологических до бытовых);
-
– особенности поколения, выросшего в экстремальных военных условиях (на Донбассе есть дети, которые уже не застали мирной жизни или почти не помнят ее);
-
– специфика психологии разных категорий военнослужащих (кадровых офицеров, мобилизованных, добровольцев, контрактников, ополченцев ДНР и ЛНР (до и после признания республик и их вхождения в состав РФ), членов ЧВК «Вагнер» и др.).
Освещать события, с точки зрения истории не завершенные, происходящие в текущий исторический момент, сложно по целому ряду причин. Первая и самая главная – доступность достаточно ограниченного круга источников, потому что материалы еще не успели отложиться в архивах. Так, например, по теме участия иностранных наемников в боевых действиях в зоне СВО таких видов источников несколько. Во-первых, это нормативные документы – как российские, так и зарубежные, освещающие проблему военного наемничества с точки зрения международного права и внутреннего законодательства разных стран. Во-вторых, экспертные оценки специалистов по проблеме, опубликованные в различных СМИ. В-третьих, новостные сообщения о присутствии иностранных наемников в зоне боевых действий, об их уничтожении или задержании, судебных разбирательствах и вынесенных им приговорах. Наконец, в-четвертых, это интервью самих наемников журналистам, а также публикации в социальных сетях текстовых сообщений за конкретную дату (по сути, дневниковые записи, ведущиеся в электронной форме), фото- и видеосвидетельств, размещенных как самими наемниками, так и теми, кому пришлось с ними сталкиваться, общаться или каким-либо образом взаимодействовать. Разумеется, вся эта информация не систематизирована и не сконцентрирована на каком-то одном ресурсе, а рассеяна по всей глобальной сети Интернет, и ее поиск является достаточно трудоемким процессом. А поскольку методика анализа таких видов источников, как соцсети и публикации в электронных СМИ, с точки зрения новейших источниковедческих практик еще недостаточно отработана, возникает вопрос о репрезентативности привлеченного материала. Но в данном конкретном случае нас интересует оценка самого явления в текущей геополитической ситуации, эволюция отношения к нему так называемого международного сообщества как в официальном, так и в общественном дискурсах, самопо-зиционирование самих иностранных наемников по отношению к их целям, задачам, роли и мотивам участия в вооруженном конфликте на территории Украины после начала проведения СВО, соотношение их ожиданий и реальности, анализ ситуации внутри Иностранного легиона и отношений между состоящими в нем выходцами из разных стран; оценка ими союзников (Вооруженных сил Украины, на стороне и в составе которых они выступают на театре военных действий, других силовых ведомств, военной и гражданской администрации и проч.) и противников (российских военнослужащих, ополченцев ДНР и ЛНР), гражданского населения западной и центральной Украины, а также территорий Юго-Востока с преобладающим русскоязычным населением. Также вызывает интерес мнение российских военных из зоны СВО (как правило, зафиксированное в репортажах военных корреспондентов) о боевых качествах и моральном духе наемников в зависимости от их национальности и гражданства, предыдущего военного опыта в других горячих точках и т. д. Как можно увидеть на данном конкретном примере, задача перед исследователями стоит достаточно сложная, но вполне решаемая.
ОПЫТ КОМИССИИ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В КОНТЕКСТЕ СВО
В 1943 году в одной из своих статей Илья Эренбург написал пророческие слова:
«Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описания, она и проще, и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследова-тели»1.
Другой военный писатель Константин Симонов говорил: «Иногда человеку кажется, что война не оставляет на нем неизгладимых следов. Но если он действительно человек, то это ему только кажется». Сегодня эти утверждения касаются не только самих участников боевых действий, но и тех, кто изучает человека на войне методами военной антропологии. Без историко-психологической реконструкции, эмоционального погружения во внутренний мир людей, переживших военный опыт, чувства глубокой сопричастности исследователя тем, кого он исследует, эта наука никогда бы не состоялась. Мы учимся не только понимать, но и чувствовать войну. И здесь мы вплотную подходим к проблеме изучения событий, происходящих сегодня, буквально на наших глазах, когда исследователь является не просто современником и сторонним наблюдателем, но свидетелем, очевидцем, а то и непосредственным их участником, то есть сам оказывается включен в незавершенный исторический процесс, который исследует. А значит, сопричастен ему.
Обратимся к опыту Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года по инициативе секретаря ЦК, МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербакова при Московском комитете партии была создана Комиссия по истории обороны Москвы. В январе 1942 года при Академии наук СССР была создана Комиссия по истории Великой Отечественной войны, во главе которой встали профессор, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров и член-корреспондент АН СССР (позднее академик) И. И. Минц. Комиссии по сбору материалов по истории войны были созданы также при ЦК ВЛКСМ, наркоматах, в армии и на флоте, в областях, краях и республиках. В 1943–1944 годах такие комиссии были созданы в освобожденных районах. Основная задача Комиссии по истории Великой Отечественной войны состояла в собирании материалов, которые не откладываются в архивах, – документов личного происхождения участников войны и тружеников тыла. Среди главных тематических направлений были история воинских частей и боевых подразделений, оборона городов, документы о Героях Советского Союза, военная экономика, культура и быт, партизанское движение, оккупационный режим немецко-фашистских захватчиков и др. В ходе работы Комиссии осуществлялось и специальное целенаправленное формирование новых исторических источников на основе устных свидетельств участников событий, то есть их интервьюирование, стенографирование бесед, рассказов и воспоминаний о боевых и трудовых буднях войны, на основе специально разработанных методических рекомендаций. Главными принципами являлись непосредственное общение с участниками событий и минимальный разрыв во времени с самим событием2. Наши предшественники хорошо понимали, что свидетельства нужно записывать и фиксировать «по горячим следам», чтобы не утратить важную информацию вместе с ее носителями, которые продолжают находиться в зоне постоянного риска; что события, наслаиваясь в памяти одно на другое, часто искажаются, забываются, а со временем замещаются похожими; что большая История слагается не только из официальных документов, но из человеческих судеб и маленьких историй простых людей.
Сегодня, в конце второго года с момента начала СВО, мы понимаем, что перед нами стоит та же самая задача: записать и сохранить, передать потомкам живую человеческую память о подвиге и трагедии Русского Донбасса, его жителей и защитников, не позволить забыться и затеряться множеству событий и фактов, а также искреннему и честному взгляду на них непосредственных участников, то есть тех, кто сам является деятельным творцом истории нашей страны.
Не случайно в принятой 12 декабря 2022 года Резолюции Научного совета Российского военно-исторического общества отдельным пунктом под номером 7 стоит предложение
«создать Государственную комиссию по историческому описанию и обобщению опыта Специальной военной операции (аналог Комиссии по истории Великой Отечественной войны, созданной в декабре 1941 года)»3.
Очень надеемся, что власти нас услышат и окажут содействие этой важной работе. Мы готовы помочь в организации и принять активное в ней участие.
Сегодня, в век Интернета, возникает проблема, когда источники личного происхождения, существовавшие раньше на бумажных носителях (переписка, дневниковые записи), почти полностью уходят в электронный виртуальный формат – и безвозвратно в нем теряются. В тех же те-леграм-каналах с первых дней СВО встречались удивительные по силе эмоционального воздействия записи впечатлений и рассуждений бойцов и военкоров обо всем, что можно назвать военной повседневностью, их рассказы о фронтовой и госпитальной жизни, о товарищах и командирах, о реальном образе врага, о звуках, запахах, красках войны... Как теперь найти, собрать и сохранить эти бесценные свидетельства – большой вопрос и серьезная источниковедческая задача, которую нужно решать прямо сейчас.
Для примера приведем размышления бойца и журналиста Никиты Третьякова, мобилизованного в ВС РФ с должности заместителя главного редактора «старого» (до смены руководства) ИА REGNUM в воздушно-десантные войска и уже год прослужившего в зоне СВО, где он ведет дневниковые записи и иногда (если представляется возможность при выходе на отдых или во время лечения в госпитале) выкладывает их в своем телеграм-канале с очень небольшим (7,2 тыс.) числом подписчиков. Вот его запись от 16 сентября 2023 года:
«Я знаю, что большинство моих читателей ждут кого-то из близких или друзей с войны. Знаю, что когда мы – те, кого ждут, вернемся, разговоры о войне не будут легкими, но они будут. Многие мои товарищи уже вернулись, кто-то ждет операции, а кто-то – протезирования, и они уже ведут такие же тяжелые разговоры. Почему тяжелые? Для нас – участников войны – такие разговоры непросты, потому что война – это совершенно другая реальность, здесь другое считается нормой, другие правила игры, другая жизнь во множестве отношений. Разговаривая даже с самыми близкими людьми из нашей мирной жизни, мы часто не знаем, как рассказать о волнующих нас событиях, с чего начать, чтобы быть понятыми и не столкнуться с отторжением. Поэтому и на гражданке ребята тянутся к сослуживцам, подолгу обсуждают с ними вместе пережитое и общих знакомых, оставшихся на фронте.
Для мирных людей, далеких от военного дела, разговаривать с фронтовиками трудно, потому что вокруг войны создана как бы аура болезненности, травмы, о войне принято говорить размыто, в общем. И в то же время опыт каждого бойца совершенно конкретен и его невозможно понять, не вникнув в детали. Поэтому если вы ждете кого-то с войны, будьте готовы учиться, впитывать новую, пусть и бесполезную для вас лично информацию. Разберитесь в иерархии взводов, рот и батальонов, постарайтесь как можно лучше понять, какие функции выполняет ваш воин на фронте, с каким вооружением и техникой ему приходится работать, на передке ли он выполняет задачи, на какой линии, и какие, собственно, задачи. Даже знание азов сильно упростит общение, даст понять солдату, что ваш интерес к его военному прошлому не мимолетен, что вы дали себе труд погрузиться в тему...» 4
По глубине, искренности, психологической достоверности и точности в описании фронтовых будней и деталей солдатского быта заметки Никиты Третьякова можно сравнить с военными дневниками Константина Симонова. Надеемся, что автор когда-нибудь издаст их в виде книги. Потому что «рукописи не горят», а странички в Интернете, увы, не столь долговечны. Тем важнее их найти, увидеть и сохранить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня военная антропология как никогда актуальна и востребована не только в научном, но в первую очередь в общественно-политическом контексте. Развитие этой исследовательской дисциплины является объективной потребностью и для использования накопленного исторического опыта, адаптированного к современным условиям, и в формировании психологической устойчивости общества в экстремальных ситуациях военных конфликтов, и для реабилитации бойцов, вернувшихся «из-за ленточки» в мирную жизнь, и в решении многих других задач, в том числе и военно-прикладных. При этом главное для исследователей, работающих в русле военно-антропологического подхода, – это сопричастность судьбе своих предков, а в условиях СВО – и наших современников, которые в ней участвуют, – погружение в их психологию и мотивацию в переломное для страны время, глубокое и искреннее эмоциональное сопереживание, без которых и собственно научный анализ проблемы будет ограниченным и неполным.
Военная антропология становится все более значимой в учебно-воспитательном процессе, включая преподавание в высшей школе, которое на исторических факультетах вузов России началось практически сразу, когда в 2000 году было объявлено о конституировании новой научной дисциплины5. По мнению И. А. Анфертьева, изучение военной антропологии призвано подготовить специалиста, «способного комплексно анализировать природу войны как сложного социального феномена, ориентироваться в современном восприятии военных действий и влиять на их ликвидацию» [1]. За неполные четверть века вышли в свет не только многочисленные труды, развивающие научные знания в этой области, но также учебные и методические пособия для университетов6. Сформировалась целая научная школа: в русле новой исследовательской парадигмы активно защищаются диссертации, авторы которых уверенно причисляют себя к военным антропологам (подробнее см.: [16]).
К сожалению, в последние годы сокращение учебных часов на историю привело к тому, что преподавание военной антропологии стало возможным не в виде отдельных спецкурсов, а в общем контексте курса истории, в первую очередь истории России Нового и Новейшего времени, через расстановку определенных тематических акцентов, использование новых теоретических и методических подходов и разработку специальных творческих заданий для студентов. Но есть надежда, что принятая недавно новая программа по истории позволит задействовать потенциал этого междисциплинарного направления более активно и продуктивно.
Пока же, по опыту прошлых лет, можно констатировать, что изучение Новейшей истории России в вузе через сквозную тему «человек на войне», используя метод психологической реконструкции и актуализации исторической памяти нескольких поколений внутри семьи, в том числе с привлечением семейных и личных архивов, материалов устной истории, не только пробуждает у студентов интерес к самому предмету «История», но дает серьезный эффект в сфере патриотического воспитания молодежи. Однако в современных условиях этого уже недостаточно. Нужен системный подход к преподаванию военно-антропологической проблематики. Таковы реальность и вызовы суровой и сложной эпохи, в которой мы сегодня живем.
Список литературы Военная антропология в новых исторических условиях
- Публицистика периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. М.: Советская Россия, 1985. С. 230.
- Третьяков Никита. Что там было? [16.09.2023] [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьирв^Я.те/ 1ге1уакоу_п/1127 (дата обращения 12.10.2023).
- См.: Минц И. И. Документы Великой Отечественной войны, их собирание и хранение // 80 лет на службе науки и культуры нашей Родины. М., 1943. С. 135-150; Михайлова Е. П. О деятельности Комиссии по истории Великой Отечественной войны советского народа против фашистских захватчиков в период 1941-1945 гг. // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1975. С. 352-359; Левшин Б. В. Деятельность Комиссии по истории Великой Отечественной войны. 1941-1945 // История и историки: Историографический ежегодник, 1974. М.: Наука, 1976. С. 312-317; Архангородская Н. С., Курносов А. А. О создании Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР и ее архива (К 40-летию со дня образования) // Археографический ежегодник за 1981 год. М.: Наука, 1982. С. 219-229.
- Резолюции Научного Совета Российского военно-исторического общества. Москва, 12 декабря 2022 г. // Журнал «Наука. Общество. Оборона». Сетевое издание [Электронный ресурс]. Режим доступа: Мрз://^^^. noo-journal.ru/Ыog/patrioticheskie-svodki-ot-vladimira-kiknadze/v-tselyakh-mobilizatsii-usiliy-rossiyskogo-naroda-na-dostizheniye-pobedy-v-spetsialnoy-voyennoy-operatsii-rezolyutsiya-nauchnogo-soveta-rvio/ (дата обращения 21.02.2023).
- Впервые лекционный курс по военной антропологии (Сенявская Е. С. «Человек на войне. Военно-историческая антропология и психология. (На материале российских войн ХХ века)») был прочитан в 2001 году в Петрозаводском государственном университете. Затем этот предмет преподавался студентам и магистрантам в Историко-архивном институте Российского государственного гуманитарного университета (Сенявская Е. С., Анфертьев И. А.). В разные годы занятия в спецкурсах и спецсеминарах велись в Омском государственном университете (Кожевин В. Л.), Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского (Дроздов Ф. Б.), Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина (Николаи Ф. В.), Карельской государственной педагогической академии (Юсупова Л. Н.), Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (Бажуков В. И.) и других вузах страны.
- Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки: проблемы изучения и преподавания в курсах отечественной истории // РГГУ - вузам России. Преподавание истории студентам неисторических специальностей. Современный педагогический опыт. М.: ИЦ РГГУ, 2005. С. 73-81; Она же. Человек на войне. Военно-историческая антропология и психология (на материале российских войн ХХ века) // История России ХХ-ХХ1 века: Программы спецкурсов. 2-е изд., доп. М.: ИЦ РГГУ, 2006. С. 97-106; Она же. История войн России ХХ века в человеческом измерении. Проблемы военно-исторической антропологии и психологии. (Учебно-методический комплекс для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «История»). М.: ИЦ РГГУ, 2011. 44 с.; Она же. История войн России ХХ века в человеческом измерении. Проблемы военно-исторической антропологии и психологии: Курс лекций. М.: ИЦ РГГУ, 2012. 332 с.; Она же. Военно-историческая антропология и психология (на материале российских войн ХХ века). (Учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей высших учебных заведений). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. 223 с.; Анфертьев И. А. Антропологические аспекты современной военной истории России // История коммуникаций на советском и постсоветском пространстве: Программы курсов магистратуры по направлению «История». Ч. 2. М.: ИЦ РГГУ, 2010. С. 140-157.
- Анфертьев И. А. Новые направления в современной отечественной историографии. Военно-историческая антропология: теоретические и междисциплинарные проблемы новой отрасли исторической науки // Гуманитарные чтения РГГУ - 2010: Теория и методология гуманитарного знания. Россиеведение. Общественные функции гуманитарных наук: Сб. материалов. М.: РГГУ, 2011. С. 319-328.
- Бажуков В. И. Методологические вопросы военной антропологии // Университетские чтения: Сб. ст. Вып. 9. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 32-35.
- Баранов А. П. Клио на берегах Невы (Обзор публикаций) // Отечественная история. 2004. № 4. С. 120-130.
- Виноградов В. В. «Грозное время» и проблемы его изучения (от составителя) // Временник Зубовского института. Вып. 6: Грозное время. Война в зеркале человеческого восприятия. СПб.: Российский институт истории искусств, 2011. С. 5-6.
- Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М.: РОС-СПЭН, 2002. 400 с.
- Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. М.: РОССПЭН, 2005. 464 с.
- Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. Актуальные проблемы изучения. М.: РОС-СПЭН, 2006. 416 с.
- Война в человеческом измерении: идеология, психология, повседневность, историческая память: Материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, 20 марта 2020 г.). СПб.: Алетейя, 2021. 512 с.
- Кожевин В. Л. Войны России ХХ столетия в историко-антропологическом измерении // Вестник Омского университета. 2010. № 2. С. 9-13.
- Кожевин В. Л. К вопросу о предмете военно-исторической антропологии // Катанаевские чтения: Материалы Пятой всерос. науч.-практич. конф. (Омск, 17-18 апреля 2003 г.). Омск: Наука, 2003. С. 3-5.
- Козлов С. А. Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития; Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления // Вопросы истории. 2004. № 10. С. 166-169.
- Козлов С. А. Рецензия на ежегодник «Военно-историческая антропология» // Клио: Журнал для ученых. 2005. № 2. С. 269-273.
- Николаи Ф. В., Софронова Л. В., Хазина А. В. Военно-историческаяантропология: векторы теоретической полемики в российской и англоязычной историографии // Научный диалог. 2021. № 2. С. 356-370.
- О человеке под ружьем // Пути к безопасности. 2001. Вып. 1 (21). С. 44-46.
- Сенявская Е. С. 1941-1945. Фронтовое поколение. Историко-психологическое исследование. М.: ИРИ РАН, 1995. 218 с.
- Сенявская Е. С. Военная антропология: опыт становления и развития новой научной отрасли (по итогам первого пятнадцатилетия XXI века) // История и историки. 2011-2012. Историографический вестник. М.: Наука, 2015. С. 88-110.
- Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология - новая отрасль исторической науки // Отечественная история. 2002. № 4. С. 135-145.
- Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки // Военно-историческая антропология: Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М.: РОССПЭН, 2002. С. 5-22.
- Сенявская Е. С. Научные конференции по военно-исторической антропологии (Челябинск и Нижний Новгород, апрель 2000 г.) // Отечественная история. 2001. № 3. С. 208-212.
- Сенявская Е. С. От военной истории к военной антропологии: проблемное поле и междисциплинарные подходы в изучении «человека на войне» // Война в человеческом измерении: идеология, психология, повседневность, историческая память: Материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, 20 марта 2020 г.). СПб.: Алетейя, 2021. С. 11-22.
- Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 383 с.
- Сенявская Е. С. Теоретические проблемы военной антропологии: историко-психологический аспект // Homo belli - человек войны в микроистории и истории повседневности: Россия и Европа XVIII-XX веков: Материалы Рос. науч. конф. 19-20 апреля 2000 г. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2000. С. 10-27.
- Сенявская Е. С. Человек на войне: Историко-психологические очерки. М.: ИРИ РАН, 1997. 232 с.
- Соколов А. К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 1. М., 1998. С. 108-109.
- Фортунатова В. А. Военная антропология как наука о возможностях человека // Homo belli - человек войны в микроистории и истории повседневности: Россия и Европа XVIII-XX веков: Материалы Рос. науч. конф. 19-20 апреля 2000 г. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2000. С. 139-141.
- Хлынина Т. П. Война как объект историко-антропологических исследований // Российское общество и войны XX века: Материалы Всерос. науч.-практич. конф. Адлер, 27-30 мая 2004 г. Краснодар: Кубань-кино, 2004. С. 3-6.
- Чубарьян А. О. Современные тенденции социальной истории // Социальная история: Ежегодник, 1997. М.: РОССПЭН, 1998. 364 с.
- Homo belli - человек войны в микроистории и истории повседневности: Россия и Европа XVIII-XX веков: Материалы Рос. науч. конф. 19-20 апреля 2000 г. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2000. 311 с.