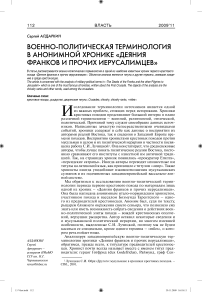Военно-политическая терминология в анонимной хронике "Деяния франков и прочих иерусалимцев"
Автор: Алдаркин Сергей Артурович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается военно-политическая терминология одной из наиболее известных хроник первого крестового похода «Деяния франков и прочих иерусалимцев». Объектом анализа являются титулы и другие термины, имевшие хождение в среде крестоносцев.
Крестовые походы, рыцарство, дворянские титулы
Короткий адрес: https://sciup.org/170164641
IDR: 170164641
Текст научной статьи Военно-политическая терминология в анонимной хронике "Деяния франков и прочих иерусалимцев"
И сследование терминологии источников является одной из важных проблем, стоящих перед историками. Хроники крестовых походов представляют большой интерес в плане различной терминологии – военной, религиозной, этнической, политической. Причиной тому служит своеобразие данных источников. Написанные зачастую непосредственными очевидцами событий, хроники содержат в себе как данные о восприятии их авторами реалий Востока, так и сведения о Западной Европе времени походов. Восприятию хронистами крестовых походов против мусульман в целом и их политической иерархии в частности посвящена работа С.И. Лучицкой1. Она констатирует, что средневековые авторы, чтобы лучше понять политические реалии Востока, постоянно сравнивают его институты с известной им античной традицией. Так, на страницах хроник появились «прокуратор Египта», «персидские сатрапы». Иногда авторы переводят неизвестные им титулы на латинский язык, как произошло с титулом «эмир». Также хронисты иногда уподобляют взаимоотношения мусульманских султанов и их подчиненных западноевропейской вассально-ленной системе.
Мы обратимся к исследованию военно-политической терминологии периода первого крестового похода по материалам лишь одной из хроник – «Деяния франков и прочих иерусалимцев». Она была написана анонимным итало-нормандским хронистом, участником похода и вассалом Боэмунда Тарентского – одного из предводителей крестоносцев. Аноним был, судя по тексту, рыцарем ближнего окружения своего сеньора, что позволяло ему знать или иметь возможность собрать сведения о действиях военно-политической элиты похода – вождей крестоносных ополчений, верхушки рыцарства. Автор оставил некоторые сведения и о мусульманской политической иерархии, во многом имевшей особенности, выделенные С.И. Лучицкой, поэтому мы не будем касаться ее специально, кроме одного термина – «miles», о котором речь пойдет ниже.
АЛДАРКИН Сергей Артурович – аспирант ИИиМО СГУ им. Н.Г.
Анализируя западноевропейскую военно-политическую терминологию хроники «Деяния франков и прочих иерусалимцев», обратимся, прежде всего, к титулатуре предводителей крестоносцев. Хронист почти всегда называет вместе с именем титул предводителя: герцог Готфрид (dux Godefridus), Раймунд, граф Сен-
Жилль (comes de Sancto Egilio Raimundus), Роберт, граф Фландрии (Rotbertus comes Flandrensis) и т.д.
Еще одно обозначение, имеющее непосредственное отношение к военно-политической терминологии хроники, – это термин «miles» (мн. ч. –milites). Обычно его принято переводить как «рыцарь», либо приводить в латинском варианте, когда речь идет, например, об эпохе Каролингов. Необходимо исследовать понятие «miles», поскольку в «Деяниях» речь идет, прежде всего, о рыцарстве, и именно рыцарство стало основой военно-политической организации крестоносных государств. Кроме того, в хронике нет большого разнообразия терминов для обозначения воинов вообще и рыцарей в частности. Так, мы не встретим здесь слов «pugnatores», «bellatores», «caballarii», которые можно найти в других текстах.
Однозначного определения, что такое «рыцарь», «рыцарство», не выработано до настоящего времени. Общим местом является лишь признание необходимости рассматривать и характеризовать рыцаря и рыцарство с разных точек зрения.
Так, например, Р. Барбер, автор солидного труда «Рыцарь и рыцарство», отмечает, что в рыцаре выделяются две основные характеристики: на войне он сражался как конный воин, а в мирное время был землевладельцем, державшим землю за службу. Ж. Флори отмечает, что рыцарь – это одновременно воин-всадник, воин – носитель весьма почетного социального статуса и носитель особой этики. Ф. Контамин рассматривает рыцаря преимущественно как тяжеловооруженного всадника, но при этом уделяет внимание и вопросам рыцарской морали. Слово «рыцарь», по мнению М. Кина, обозначает чаще всего аристократа, способного экипироваться тяжелым оружием и прошедшего определенный обряд. Но понятие «рыцарство», считает исследователь, «так просто классифицировать невозможно», поскольку «этим понятием и его разнообразными оттенками средневековые писатели пользовались для обозначения самых различных вещей и явлений и в самых различных контекстах»1. С.И. Лучицкая признает, что «рыцарство – сложное и многоплановое понятие», которое не может быть отождествлено с «кавалерией» или знатью. Первоочередной характеристикой рыцарства исследовательница считает связываемую с ним определенную этическую модель2.
Ситуация осложняется тем, что термин «miles», обозначая в источниках «рыцаря», со временем стал обозначать разные группы общества. К анализу этой проблемы обратился в своей статье «Происхождение рыцарства» Ж. Дюби. На материале французской провинции Маконэ автор показал, что рассматриваемый термин постепенно (на протяжении X–XI вв.) изменил значение с «подчиненного» и «вассала» на «знатного», фактически превратившись в титул. Исследователь отметил также, что в различных регионах Франции и в Германии подобные процессы происходили приблизительно на 100 лет позже. Ж. Флори считает, что из-за милитаризации общества термин «miles», войдя в широкий обиход в XI в., применялся к очень широкому спектру воинов – от аристократии до вооруженной челяди, причем аристократы, называя себя «miles», не позволяли именовать себя «milites» в обществе равных, поскольку так обозначались «вассалы, служившие своему сеньору оружием»3. Затем в течение века данным термином постепенно стали именовать отборных всадников. Высокопоставленных всадников – графов, князей источники остерегались именовать «только рыцарями», то есть термином, не содержавшим в себе указания ни на социальное положение, ни на правовой статус. Поэтому существительное «рыцарь» нередко сопровождалось прилагательным, которое выделяло своего носителя из общей массы «всадников»: «благородный», «очень благородный», «знаменитый», «знаменитейший».
Milites в тексте хроники – это часть всего войска, которое обозначается «militia» или «exercitus». В тексте не раз можно встретить словосочетание «всадники и пехотинцы» (milites et pedites). Miles описывается в «Деяниях…» как тяжеловооруженный воин. Как отметил анонимный автор повествования, во время перехода через горы Малой Азии в условиях сильной жары milites бросали или продавали за бесценок свои щиты и кольчуги (IV, 10). Важным критерием для отнесения к milites автор считал наличие коня. Отметим также, что автор, упоминая коней, не использует в хронике такой термин, как «equites» – «конники». По отношению ко всем всадникам применяется именно термин «milites».
Однако miles вполне мог сражаться и пешим. Так, перед одним из сражений Боэмунд Тарентский «приказал всем всадникам спешиться» (III, 9). В тексте есть эпизод, когда одни milites катят к стене города осадную башню, а другие стоят внутри нее, готовые сражаться с защитниками (X, 33). Наконец, Летольд – воин, который первым взобрался на стену Иерусалима, обозначен как «quoddam miles» (X, 38).
Автор использует термин «milites», чтобы обозначить принадлежность отправившихся в поход людей к «воинству Христову». На страницах своего труда он применяет к крестоносцам словосочетания «Христово воинство» (Christi militae) (II, 5; II, 6 etc.), «Христовы воины» (Christi milites) (I, 3; II, 6; III, 9 etc.), «воины истинного Бога» (milites veri Dei) (VII, 18). При этом нельзя сказать, что термин «miles» относится только к христианам. Мусульманские воины, наряду с традиционными для хроник обозначениями «язычники» (pagani) (IV, 11; IX, 21; IX, 22 etc.) и «неверные» (infideli) (III, 9; X, 37; X, 38), в ряде случаев также обозначаются автором как «milites». Мосульский эмир Кербога, согласно хронике, «командующий войска султана Персии» (princeps militiae soldani Persiae) (IX, 21), в своем письме обращался к султану, халифу и «всем опытнейшим milites Хорасана» (IX, 21). Не совсем ясно, употребляется ли этот термин в отношении всех мусульманских всадников или какой-то их части. Мусульманская конница, составляющая войско, была преимущественно легкой, но в «Деяниях франков…» есть упоминание об отряде в три тысячи всадников из «народа агулан». Эти конники «не боялись ни копий, ни стрел, ни какого-либо другого оружия, ибо они [сами] и их кони были полностью покрыты железными пластинами» (IX, 21). Автор хроники считал, по крайней мере, какую-то часть вражеского войска рыцарями. По его словам, при бегстве после битвы под Антиохией в давке у городских ворот погибло двенадцать мусульманских эмиров и полторы тысячи их «храбрейших и опытнейших рыцарей» (fortissiorum et prudentissimorum milites) (VII, 18).
Автор хроники, как и другие европейские авторы, полагал, что на Востоке существует система вассально-ленных отношений, подобная западноевропейской. Например, Кербога якобы сказал одному из эмиров об антиохийской цитадели: «Я хочу, чтобы ты стал, как мой верный защищать это укрепление…» (Volo ut intrers in fidelitatem meam custodire hoc castrum…)(IX, 21). Кербога также обещал христианам: «Дадим земель и города, и замки в придачу, так что никто из ваших не останется пехотинцем, а все будут рыцарями (milites), как мы». По словам хрониста, Кербога был готов пойти на это, если христиане откажутся от своего Бога и «станут турками», то есть, очевидно, перейдут в мусульманство (IX, 28). В этом фрагменте хронист вкладывает в уста другому собственное представление о западноевропейском рыцарстве рубежа XI–XII вв. как о всадниках, получающих земельные владения на условии несения службы.
Перечисляя известных ему участников похода, автор называет и их владения (Раймунд Тулузский, Раймунд Туреньский, Вильгельм из Монпелье и т.д). Некоторые milites приобрели владения в течение кампании. После взятия одного из городов «его попросил себе некий рыцарь по имени Пьер Альпийский у всех сеньоров, чтобы защищать [город] в верности Богу, Гробу Господню, нашим вождям и императору …[Этот город] они с великим благожелательством уступили ему» (IV, 11).
Можно заметить, что «рыцарь» и «знатный» в представлении хрониста не совсем одно и то же. Боэмунд Тарентский обращается к лидерам похода «Сеньоры и опытнейшие рыцари» (Seniores et prudentisssimi milites) (V, 13; VI, 17) или «Сеньоры и храбрейшие рыцари Христовы» (Seniores et fortissimi milites Christi) (III, 9), «соединяя» в этом обращении знатность («senior») и статус «miles». Другие персонажи используют в диалогах с лидерами крестоносцев слово «seniores», но не называют их «milites». Сам автор хроники, если необходимо сказать обо всех предводителях похода, использует как синонимы термины «seniores», «maiores» и иногда «principes».
Можно предположить, что к моменту создания хроники постепенно начало также формироваться представление о том, что miles, чтобы считаться таковым, должен совершать рыцарские деяния.
Таким образом, термин «miles» употребляется в хронике в значении «рыцарь», если под ним понимать тяжеловооруженного всадника и обладателя некой земельной собственности. Можно обнаружить зачатки процесса осмысления рыцарства как носителя высоких моральных качеств и обладателя определенного социального положения.