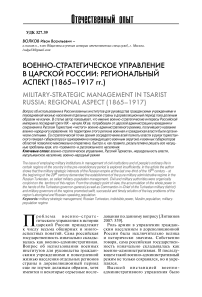Военно-стратегическое управление в царской России: региональный аспект (1865 -1917 гг.)
Автор: Волков Иван Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Вопрос об использовании в России военных институтов для руководства гражданскими учреждениями и повседневной жизнью населения отдельных регионов страны в дореволюционный период пока должным образом не изучен. В статье автор показывает, что именно военно-стратегические интересы Российской империи в последней трети XIX - начале XX вв. потребовали от царской администрации учреждения и сохранения в Русском Туркестане «чистого» военно-административного режима, получившего название военно-народного управления. На территории этого региона военная и гражданская власти были органически слитными. Со стратегической точки зрения сосредоточение всей полноты власти в руках туркестанского генерал-губернатора (и одновременно командующего военным округом) и военных губернаторов областей позволило максимально оперативно, быстро и, как правило, результативно решать все насущные проблемы края, его «туземного» и русскоязычного населения.
Военно-стратегическое управление, русский туркестан, нераздельность власти, мусульманское население, военно-народный режим
Короткий адрес: https://sciup.org/170167422
IDR: 170167422
Текст научной статьи Военно-стратегическое управление в царской России: региональный аспект (1865 -1917 гг.)
Проблема военно-стратегического управления в истории царской России принадлежит к числу весьма обширных и многоаспектных понятий. Сама российская государственность изначально складывалась как военно-административная. Вопрос об использовании военных институтов для руководства гражданскими учреждениями и повседневной жизнью населения отдельных регионов страны в дореволюционный период еще не изучен должным образом, хотя имеются и некоторые серьезные иссле- дования по данному вопросу [Литвинов 2007: 539].
Роль армии в управлении гражданским населением в дореволюционной России была исключительно велика и исторически значима. Собственно говоря, сама российская государственность изначально складывалась как военно-административная. В последующем такой военно-административный режим не только сохранялся, но и укреплялся.
Высшей инстанцией военноадминистративного управления было военное министерство. Указанная модель применялась на Кавказе как до учреждения наместничества, так и позже. В Башкирии она была отменена только в 1860-х гг., когда управление ею было передано в ведение Министерства внутренних дел1. В это же время военноадминистративная модель функционировала и в Оренбургском крае. Почему?
Ответ достаточно прост. Военноадминистративный режим существовал и сохранялся там, где были сконцентрированы существенные стратегические интересы государства. Так, например, в Оренбургском крае и так называемой Киргизской степи он был ликвидирован лишь после того, как эти территории перестали быть пограничными и превратились в «тыловые» (т.е. после того, как Россия окончательно закрепилась в Средней Азии – в Туркестане).
Большое значение имела военноокружная реформа императора Александра II. И хотя основное ее содержание заключалось в отделении армии от задач гражданского управления страной, она допускала совмещение в стратегически важных регионах России обязанностей главного начальника военного округа и генерал-губернатора.
В соответствии с законом от 6 августа 1864 г. в России были образованы военные округа, командующие которыми занимались исключительно управлением войсками, тогда как генерал-губернаторы управляли гражданскими делами2. В «Общем губернском учреждении» содержались Правила для взаимных отношений гражданских и военных властей, которые определяли принципы взаимодействия генерал-губернаторов и командующих военными округами, пребывавших в одних и тех же центрах. Закон уравнивал их в правах.
Так, ст. 2 закона гласила: «Если обязанности Главного начальника военного округа возлагаются на местного Генерал-губернатора, то ему присваивается и зва- ние Командующего войсками округа»3. Такое совмещение обязанностей позже было нередким явлением, особенно в стратегическиважныхрегионах–напри-мер, в Степном генерал-губернаторстве или на Кавказе (после ликвидации там наместничества). Но сохранялась ли при этом нераздельность власти, присущая военно-административной модели управления?
Мы полагаем, что нет, поскольку в случае «совместительства» руководители как генерал-губернаторы подчинялись МВД, а как командующие округами – военному министерству. Таким образом, кажущаяся нераздельность власти в одном лице погашалась раздельностью подчинения. Безусловно, совмещение отмеченных должностей в одном лице позволяло часто пересекать границы между военной и гражданской властью, но формально, особенно в контактах с вышестоящими инстанциями, принцип разделения властей все равно сохранялся.
Однако в царской России было один регион, на территории которого военная и гражданская власти, соединенные в одном лице, были нераздельны. Речь идет о Русском Туркестане, который до 1898 г. был представлен непосредственно самим Туркестанским генерал-губернаторством (названия «Туркестанское генерал-губернаторство» и «Туркестанский край» считались в то время одинаково официальными и столь же одинаково употреблялись в государственных и иных документах) и одноименным военным округом, а также Закаспийской областью, подчиненной в 1881–1890 гг. кавказским властям, а в 1890–1898 гг. – военному министру.
На основании закона от 26 декабря 1897 г. Закаспийская область была включена в состав Туркестанского края и военного округа, равно и как Семиреченская область, которая входила в его состав в 1867–1882 гг. (в 1882–1898 гг. Семиреченская область находилась в составе Степного генерал-губернаторства и военного округа).
Безусловно, указанный закон о новом военно-административном устройстве в
Сибири и Средней Азии был продиктован важными стратегическими обстоятельствами как мирового, так и регионального значения1. Конфигурация в международных отношениях менялась – происходило образование блоков государств в преддверии мировой войны.
С 1898 г. все российские территории в Средней Азии были объединены в рамках единого края и военного округа. Это было нетрудно сделать, т.к. фактически повсеместно действовали принципы нераздельности военной и гражданской власти в едином лице туркестанского генерал-губернатора или начальника Закаспийской области. Несмотря на известные нюансы, слияние с Туркестанским краем и военным округом прошло безболезненно и для Семиреченской области.
Мы полагаем, что именно военностратегические интересы в последней трети XIX – в начале XX вв. потребовали от царской администрации учреждения и сохранения в дальнейшем «чистого» военно-административного режима в Русском Туркестане. Концепция такого режима получила в свое время название военно-народного управления.
В советской историографии существовали разные интерпретации последнего. Например, известный востоковед Б. Гафуров насчитывал 6 признаков военно-народного управления [История… 1964: 138]. Однако, на наш взгляд, все было проще. Об этом же свидетельствуют и документы.
Царский указ об учреждении Туркестанской области предоставлял ее военному губернатору нераздельную военную и гражданскую власть2. Третий раздел документа об управлении Туркестанскойобластьютакиназывался: «Военно-народное управление», а ст. 30 поясняла, что его «составляют: а) военный губернатор области; б) начальники отделов области; в) управляющие туземным населением и городничие»3.
Согласно нормативному акту, вся военная и гражданская власть в ставшем реальностью Русском Туркестане сосредоточивалась в одних руках – в руках военного губернатора. Учрежденное военно-народное управление простиралось настолько далеко, что военный губернатор имел право «утверждать в должности и смещать с оных лиц из местного населения… киргизских [т.е. кочевых] родоправителей, биев, мана-пов, сартовских аксакалов и казиев»4.
Дальнейшее развитие событий в регионе показало, что административная модель безграничного военно-народного управления в Русском Туркестане себя оправдала. В 1867 г. было учреждено Туркестанское генерал-губернаторство (край)5 и фактически одновременно был образован Туркестанский военный округ6. Оба учредительных документа содержали в себе подтверждение факта военно-народного управления регионом и нераздельность гражданской и военной власти на всех уровнях, начиная с генерал-губернатора (и командующего военным округом) и кончая начальниками уездов.
Правда, в бытность туркестанским генерал-губернатором (1882–1884), легендарный«присоединитель»Средней Азии к России М.Г. Черняев добился от военного министра П.С. Ванновского освобождения уездных начальников от командования войсками на их территории, но это вряд ли поколебало устои военно-народного управления, поскольку на краевом и областном уровнях нераздельность гражданской и военной власти сохранялась, что, конечно же, имело решающее значение.
На ее основе строилось и Временное положение об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях 1867 г., подготовленное так называемой Степной комиссией. Оно не получило законодательного утверждения в установленном порядке, но было запущено в оборот по личному распоряжению императора Александра II.
Проект Положения 1867 г., подтвердив принципы военно-народного управления, тем не менее, вернул аборигенам Средней Азии выборные начала, т.е. установил избрание народом «туземной администрации» (самоуправления) и «народного суда». Как ни странно, но, судя по архивным и правовым документам, такой «подарок» населению от царской власти не только не ослабил основополагающих устоев военно-народного управления, но и укрепил их, поскольку верхушка кочевого и оседлого социумов в Русском Туркестане, заняв выборные места, начала активно сотрудничать с царской администрацией. Недаром в суровое время антирусского и антица-ристского восстания 1916 г. в Средней Азии и Казахстане мятежники вместе с русскими и иными представителями пришлого населения убивали своих «предателей» за сотрудничество с ненавистной для них властью.
Со стратегической точки зрения сосредоточение всей полноты власти (гражданской и военной) в руках туркестанского генерал-губернатора (и командующего военным округом) и военных губернаторов областей (Закаспийской областью управлял не военный губернатор, а начальник области) позволяло максимально оперативно, быстро и, как правило, результативно решать все насущные проблемы края, его «туземного» и русскоязычного населения.
Этому способствовали во многом и субъективные факторы, в частности пребывание на посту туркестанского генерал-губернатора и командующего округом в 1867–1881 гг. К.П. Кауфмана – человека умного, опытного, решительного, целеустремленного, в меру жесткого и т.д. Недаром местное население называло его «джарым-паша» (полуцарь). Им много было сделано для экономического развития края [Волков 2010: 152-156]. Однако, по нашему убеждению, Кауфман как бы изначально был создан для утверждения принципов военно-народного управления в Русском Туркестане. Думается, что прославленный полководец генерал Черняев, заняв место Кауфмана, оказался менее успешным администратором.
Считаем нелишним отметить, что нераздельность гражданской и военной власти туркестанских руководителей как модель военно-народного управления не означала ее безграничности и произвола. На территории Туркестанского края в указанный период были учреждены и функционировали филиальные отделения центральных министерств и ведомств: финансов (казенные палаты), государственного контроля (контрольные палаты), просвещения (инспекция училищ) и т.п. Их руководители назначались сверху соответствующими министерствами и ведомствами. И они были независимыми от туркестанской краевой и областной (тем более, уездной) администрации. Но такое исключение лишь подчеркивало то правило, что военно-народное управление в своем сущностном содержании (нераздельность власти) было направлено преимущественно на коренное («туземное») население.
Мы намеренно обращаем на это внимание, т.к. в 1886 г.1 было издано новое Положение об управлении Туркестанским краем. По мнению многих исследователей, оно ликвидировало режим военно-народного управления в Туркестане, заменив его так называемым административно-полицейским управлением, утвердившемся в подавляющем большинстве губерний и областей тогдашней России.
Однако мы разделяем точку зрения авторитетного специалиста по истории Туркестана П.П. Литвинова, который сомневается в этом, указывая, что Туркестанское положение 1886 г. если и ввело некоторые принципы административно-полицейского управления в регионе, то лишь для русскоязычного населения, а коренное население края по-прежнему подчинялись принципам военно-народного управления [Литвинов 2007: 75-76].
Главное заключалось в том, что вве дение но вого правительственного
Положения об управлении краем никак не поколебало стержень военноадминистративной модели управления – нераздельность гражданской и военной власти. Она осталась незыблемой, а принципы военно-народного управления Русским Туркестаном – неизменными вплоть до свержения самодержавия в 1917 г. В пользу этого говорит и тот факт, что Закаспийская область, несмотря на пребывание с 1898 г. в составе Туркестанского края и Туркестанского военного округа, тем не менее управлялась на основании отдельного правительственного Положения, все нормы которого выстраивались исключительно в русле модели военно-народного управления, причем в его первоначальном виде1.
Есть основания полагать, что никакая иная система управления в Русском Туркестане не дала бы ожидаемых и стратегически важных результатов. Поэтому можно считать военно-народное управление в регионе единственно возможным выходом из ситуации, когда стратегические интересы России были превыше всего и требовали нестандартных и нетривиальных (при этом пусть даже и консервативных по существу) решений.
Представляется, что в наше время данный опыт использования военноадминистративной модели управления может быть востребован в условиях обострения внешне- и внутриполитической обстановки применительно к таким регионам, как Сибирь и Дальний Восток.