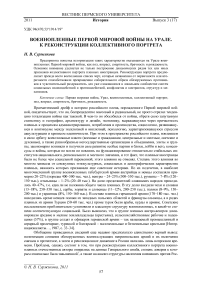Военнопленные Первой мировой войны на Урале. К реконструкции коллективного портрета
Автор: Суржикова Наталья Викторовна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальные аспекты военной истории
Статья в выпуске: 3 (17), 2011 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка историизации таких характеристик оказавшихся на Урале военнопленных Первой мировой войны, как пол, возраст, смертность, брачность и рождаемость. Основное внимание уделяется не только построению динамических рядов тех или иных признаков коллективного портрета пленных иностранцев. Реконструкция портрета предполагает прежде всего восполнение списка черт, которые независимо от первичности или вторичности способствовали превращению собирательного образа обезоруженных противников в чувствительный раздражитель для уже сложившихся в локальном сообществе систем социальных взаимодействий и противодействий, конфликтов и контрактов, структур и механизмов.
Первая мировая война, урал, военнопленные, коллективный портрет, пол, возраст, смертность, брачность, рождаемость
Короткий адрес: https://sciup.org/147203359
IDR: 147203359 | УДК: 94(470.5)"1914/19"
Текст научной статьи Военнопленные Первой мировой войны на Урале. К реконструкции коллективного портрета
Прагматический дрейф в историю российского плена, порожденного Первой мировой войной, свидетельствует, что он, беспрецедентно массовый и радикальный, не просто отразил тенденцию тотализации войны как таковой. В чем-то он обособился от войны, обретя свою запутанную статистику и географию, архитектуру и дизайн, экономику, выражавшуюся через причастность пленных к процессам администрирования, потребления и производства, социологию, развивавшуюся в континууме между эксклюзией и инклюзией, психологию, характеризовавшуюся стрессом аккультурации и кризисом идентичности. При этом в пространстве российского плена, вовлекшем в свою орбиту всевозможные власти (военные и гражданские, центральные и местные, светские и духовные), а также разнообразные негосударственные организации и объединения, элиты и группы, закономерно возникли и получили свое развитие особые партии и блоки, лобби и вето, консенсусы и войны, которые не могли не повлиять на функционирование относительно стабильных институтов национального, регионального и местного значения, и тот факт, что пленные иностранцы были не более чем социальной переменной, этого влияния не отменял. Степень этого влияния во многом зависела от совокупных этнокультурных, социальных и демографических характеристик пленных, важность которых признавали еще советские историки. По их подсчетам, в наиболее многочисленной группе военнопленных габсбургской армии австрийцы и немцы составляли примерно 20–22% (порядка 400–500 тыс. чел.), венгры – 24–25% (500–550 тыс.), румыны – 7–8% (120– 150 тыс.), итальянцы – 1–2% (20–40 тыс.). На долю представителей славянских народов приходилось 40–47%, т.е. едва ли не половина общего числа пленных. В эту долю входили чехи и словаки (13–18%, 250–350 тыс.), сербы, хорваты и словенцы (11–12%, 200–250 тыс.), поляки (8–9%, 150– 200 тыс.) и украинцы (8%, 150–160 тыс.). В составе пленных германской армии (170–180 тыс. чел.) находились кроме немцев поляки из западных польских областей и французы-эльзасцы, а в рядах пленных из армии Турции (50–60 тыс. чел.) кроме турок были арабы, курды и армяне. Советские исследователи приблизительно установили и классовую структуру военнопленных, в какой-то степени соответствующую социальной. Было выяснено, что в группе пленных австро-венгров доминировали средние и мелкие землевладельцы (крестьяне), сельскохозяйственные рабочие и поденщики (57%), в группе солдат и офицеров германской армии – так называемый промышленный и аграрный пролетариат, турецкой и болгарской – малоземельные и безземельные крестьяне [Интернационалисты…, 1987, с. 33–34].
Обобщение приведенных сведений еще недавно предполагало единственно верный вывод: политизация сознания обезоруженных военнослужащих неприятельских армий и их включение сначала в протестное, а затем и революционное движение в России являлись лишь вопросами времени. Проблема, однако, состоит в том, что при реконструкции коллективного портрета военнопленных отечественные авторы опирались на данные Генерального штаба, степень доверия к которым изначально была завышенной1, а также на анализ структуры населения воевавших против Рос-
сии стран в целом. Обращение к показателям, не удовлетворяющим требованиям «гиперсциентизма», было злом, практически неизбежным, и объяснялось не столько «идейностью» советских ученых, сколько отсутствием точной статистики российского плена. Безнадежный дефицит не только первичной, но и вторичной статистической информации, в свою очередь, был обусловлен тем, что Первая мировая война практически не знала централизованного учета пленных и их статусов. По давно заведенной традиции отвоевавшихся военнослужащих противника учитывали персонально, каждого в отдельности, что в условиях массового захвата неприятельских солдат и офицеров привело к полной неразберихе и вынудило российские власти инициировать всероссийскую перепись вражеских военнопленных. «Принятие на точный учет весьма важно для самих военнопленных, как для более скорого получения корреспонденции, так и для своевременного производства их эвакуации на родину по окончании войны», – указывалось в одном из документов эпохи2. Для проведения переписи был разработан целый пакет документов, начиная с общей инструкции и заканчивая персональными бланками3. Однако результаты запланированной на 10–20 октября 1917 г. масштабной акции по регистрации военнопленных не известны4. Источники свидетельствуют, что на Урале она затянулась, а где-то, возможно, и вообще не состоялась из-за дефицита учетных карточек и разногласий между различными инстанциями в вопросе о том, кто же должен заниматься первичным учетом пленных на местах5.
Из-за отсутствия всезнающей, по расхожему мнению, статистики воссоздание коллективного портрета военнопленных Первой мировой войны остается для отечественной историографии проектом, реализация которого многим и сегодня представляется бесперспективной. Так, А. И. Гергилева полагает, что установить точный состав пленных «весьма сложно» [ Гергилева , 2006, с. 14], а Б. И. Ниманов и вовсе убежден, что сделать это «не представляется возможным» [ Ниманов , 2009, с. 12]. Между тем современное состояние исторической науки, в арсенале которой появляются все новые методы исследования, не исключает более оптимистичного видения проблемы. Особые приметы военнопленных как общности могут быть восстановлены, в частности, с учетом всевозможных косвенных данных, а также сведений, которые могли быть далеко не самыми главными для того или иного документа и фиксировались «за компанию» с другими, более важными. Интерпретация таких нестандартных данных не может быть названа валидной, исходя из цели создания исторических посланий. Вместе с тем по условиям сбора сведений его результаты могут быть интерпретированы как достаточные для постановки проблемы и конструирования исследовательской гипотезы. При этом сквозь призму невалидных данных «измеряемые» качества военнопленных могут быть отражены не только в закономерностях и типических корреляциях, но и в показателях, выходящих за рамки аналоговых характеристик. Такое решение проблемы общего и особенного, единичного и множественного, постоянных и переменных применительно к составлению культурно-этнического, демографического и социального портрета военнопленных практически снимает вопрос о точности исследуемых эмпирических индикаторов, превращая косвенные и фрагментарные сведения в конструктивно-валидные. Данная презумпция корреспондирует с активно осваиваемым в последние годы отечественными гуманитариями следопытным методом, или методом абдукции, основанным на противопоставлении привычным аналитическим процедурам, в частности, количественным методам исследования, анализа частных фактов, которые могут не только стать оригинальной коллекцией историка6. Побочное и предельно частное при обстоятельном изучении таких фактов способны вывести не просто к другому частному, но и к универсальной взаимосвязи процессов и явлений, изначально казавшихся автономными. Особенно продуктивным этот подход может оказаться при анализе демографических характеристик пленных иностранцев, участие которых в демографическом поведении не брали в расчет ни их современники, ни большинство советских и российских историков.
Половозрастные характеристики пленных
Даже неспециалисту ясно, что вопрос о гендерных характеристиках пленных как социальной единицы является излишним. Поспорить с этим трудно, равно как и с тем, что война традиционно мужское занятие, и потому, когда речь идет о ее непосредственных участниках, не предполагается никакой гендерной интриги. Интриги, действительно, не было, но прелюбопытные казусы случались. Газета «Уральская жизнь», к примеру, в мае 1915 г. ошарашила свою аудиторию новостью о том, что военнопленный австриец, проживавший в одной из деревень Тюменского уезда, «оказался женщиной и на днях …родил»7. Другое издание – «Зауральский край» – сообщило в октябре 1915 г., что «между отправляемыми за последнее время через Екатеринбург пленными были две немки-добровольцы, солдаты пулеметной команды»8. Тоскующая публика уездного центра, писала газета, «пулеметками» сразу заинтересовалась, долго их «разглядывала» и выяснила, что эти женщины – мать и дочь.
Основываясь на приведенных свидетельствах, можно констатировать, что в числе пленных помимо мужчин были и женщины, доля которых в генеральной совокупности была, по всей вероятности, близка к арифметической погрешности, а возможно, и еще незначительней. Наличие среди десятков тысяч пленных мужчин нескольких женщин едва ли серьезно повлияло на типические черты пребывавших на Урале военнослужащих противника. Но, даже будучи единичными и не вписываясь в общую картину, приведенные факты свидетельствуют о реализованной тенденции тотализации войны, которая проявилась в ходе вооруженного конфликта 1914–1918 гг. в самых разных плоскостях социального события.
В свете тенденции тотализации войны можно рассматривать и возрастные особенности военнопленных. Фрагментарные сведения, демонстрирующие закономерности распределения пленных между поколенческими генерациями, указывают на вовлечение в ряды военнослужащих вражеских армий мужчин самого разного возраста, начиная с подросткового и заканчивая преклонным. Анализ двух десятков именных списков, в которых запечатлены «персональные данные» порядка 10% пленных, оказавшихся на Урале, позволяет обнаружить, что подавляющее большинство – около 80% – вражеских солдат и офицеров составляли лица 18–35 лет. Причем доминировала группа пленных в возрасте от 18 до 25 лет (свыше 30%), 28% приходилось на долю военнопленных 26–30 лет и свыше 20% – на долю 31–35 лет9. Наибольшим разрывом в возрасте отличались пленные турецкой армии, самому молодому из которых было 14 лет, а самому пожилому – 65 лет. Пленные австро-венгерской, германской и болгарской армий представляли собой более гомогенные группы, возрастная дистанция между членами которых составляла ровно 30 лет, колебаясь в промежутке от 17 до 47 лет.
Поскольку возрастные характеристики не являются константами, следует признать приведенные подсчеты не более чем ориентировочными. Однако тот факт, что за 1914–1918 гг. пленные могли благополучно перейти из одной поколенческой генерации в другую, не отменяет вывода об их преимущественной принадлежности к наиболее активным в социальном плане возрастным группам. Находящиеся, что называется, в расцвете сил, пленные неизбежно превращались в стратегически важный ресурс, использование которого помогло смягчить проблему дефицита рабочих рук в стране, но, как показал опыт, оказалось чревато. Превалирование среди пленных людей относительно молодых, а потому деятельных, способствовало их превращению в чувствительный раздражитель для уже сложившихся в локальном сообществе систем социальных взаимодействий и противодействий, конфликтов и контрактов, структур и механизмов. Иначе говоря, совокупные возрастные характеристики пленных оказались таковы, что их переход от пассивного наблюдения за происходившим вокруг к активному участию в конструировании и реконструировании актуальной реальности стал лишь делом времени.
Смертность
Среди очевидных характеристик демографического поведения пленных следует отметить смертность, динамика которой, правда, не подлежит строгому определению ни в «человеках», ни в процентах, ни в промилле10. Вместе с тем доступные источники позволяют вполне однозначно аттестовать ее причины и характер. Опираясь на данные о возрасте военнопленных, можно с полной уверенностью утверждать, что их смертность была ранней, преждевременной и обусловливалась главным образом так называемыми социальными болезнями или болезнями экзогенного свойства (см. табл. 1 и 2). В числе последних выделялись тиф и цинга, ставшие причинами эпидемий в селе Верхние Муллы под Пермью, городах Камышлове (1915 г.), Невьянске, Верхотурье (1916 г.), Богословском горном округе (1915 г.), Архангело-Пашийском (1916 г.) и Коноваловском (Усть-Сылвицком) заводах (1917 г.)11. Надо сказать, что преобладание среди причин гибели пленных эпидемических заболеваний отражало общую ситуацию в стране, 39 губерний которой уже к середине 1915 г. были отмечены вспышками всевозможных заболеваний [ Прохоров , 2002, с. 60–61]. Есть основания полагать, что в последующие годы положение лишь ухудшилось, особенно с началом
Гражданской войны, во время которой в Россию пришла печально знаменитая «испанка», унесшая жизни более миллиона человек [Там же]. Можно также предположить, что смертность пленных Первой мировой войны на Урале едва ли отличалась аномально высокими цифрами на фоне среднерегиональных показателей, традиционно более высоких, чем по стране в целом. Скорее, наоборот, поскольку среди вражеских военнослужащих не было и не могло быть младенческой и детской смертности, составлявшей заметную долю в суммарной смертности уральцев.
Таблица 1
Список военнопленных, захороненных в 1917 г. на приходском кладбище Кизеловской Свято-Троицкой церкви Соликамского уезда12
Таблица 2
Список военнопленных, умерших в августе–ноябре 1919 г. на территории г. Екатеринбурга13
|
Дата смерти |
Фамилия, имя |
Возраст |
Причина смерти* |
|
25.08.1919 |
Бекеши Юзеф |
31 |
Дизентерия |
|
10.09.1919 |
Ковач Георг |
29 |
Сыпной тиф |
|
13.09.1919 |
Квизди Георгий |
46 |
Сыпной тиф |
|
16.09.1919 |
Верстука Зинон |
не указан |
Сыпной тиф |
|
23.09.1919 |
Кондрат Рушке |
34 |
Туберкулез легких |
Окончание табл. 2
|
Дата смерти |
Фамилия, имя |
Возраст |
Причина смерти* |
|
23.09.1919 |
Селяш Януш |
27 |
Сыпной тиф |
|
27.09.1919 |
Дохотар Алексей |
не указан |
Чахотка |
|
30.09.1919 |
Берток Иштван |
40 |
Воспаление легких |
|
06.10.1919 |
Буза (Боза) Янош |
29 |
Дизентерия |
|
15.10.1919 |
Кеплер Иозеф |
44 |
Туберкулез легких |
|
16.10.1919 |
Штахер Франц |
30 |
Сыпной тиф |
|
17.10.1919 |
Бергер Отто |
26 |
Воспаление легких |
|
18.10.1919 |
Кузю Николай |
32 |
Туберкулез легких |
|
27.10.1919 |
Плевнак Карл |
32 |
Воспаление легких |
|
15.11.1919 |
Юзиф Каплун |
44 |
Туберкулез легких |
Брачность и рождаемость
Едва ли будет большим преувеличением сказать, что участие пленных иностранцев в матримониальном и репродуктивном процессах является наиболее сложной для изучения частью их коллективного портрета. Действительно, брачность/разводимость и рождаемость в интерьере плена выглядят не очень уместными, поскольку сам по себе социо-правовой статус отвоевавшихся вражеских военнослужащих ограничивал свободу их демографического поведения. Но ограничивал не значит исключал.
Действительно, в условиях войны, когда «брачный рынок» трансформировался в сторону избытка невест, молодые в массе своей пленные просто не могли не превратиться в потенциальных женихов. Однако реализации их брачных потенций препятствовал закон, оставляя пленных иностранцев за бортом брачных выборов. В таких условиях альтернативой законному браку стало общественно порицавшееся сожительство пленных и россиянок, в котором, кстати говоря, были замечены не только девицы, но и замужние женщины. Это, безусловно, не добавляло гармонии брачным отношениям, а напрямую способствовало росту разводимости. «Я не могу перенести позора за жену. Пусть она уже с нашими врагами распутничать идет, передавать им нужные сведения, но не под моей фамилией… Я отказываюсь от своей жены, дабы не иметь на себе того грязного пятна, которое положила на себя моя жена», – писал, испрашивая в Пермской духовной консистории разрешение на развод, старший аптечный фельдшер 2-й Туркестанской стрелковой артбригады Д. Некрасов, заподозривший свою супругу Клавдию, телеграфистку ст. Верхотурье Богословской железной дороги, в связи с военнопленным14.
Запрет на браки между пленными и россиянками помимо всего прочего обрекал последних на одинокое материнство. Власти спохватились лишь в середине 1917 г., когда «опасные связи» пленных иностранцев и русских женщин стали очевидной проблемой. Правда, узаконить свои отношения с гражданками свободной России позволялось только пленным славянам, взятым на поруки или подавшим прошения о получении российского подданства. «В некоторых случаях, если просьба о браке мотивируется нравственной необходимостью, а также иными побуждениями, браки могут быть разрешаемы и пленным, не принадлежащим к указанным категориям», – гласил до-кумент15. Сказать, что с его выходом метрические книги местных церквей запестрели записями о браках с военнопленными, было бы большим преувеличением. Статистическая брачность пленных продолжала уступать фактической, поскольку сама социально-политическая ситуация в стране и регионе способствовала распространению гражданских браков. «В деревню Мишагину [Шадрин-ского уезда] я приехал в 1919 г., 8 июня, как военнопленный, [куда мы] командированы были из лагерей на полевые работы, […] я оставался работать у гр[аждани]на Мишагина Василия Григорьевича, но, побыв у него один месяц, перешел к гр[аждан]ке Мишагиной Агафье Игнатьевне, у которой в то время мужа не было, потому я начал работать у нее в хозяйстве и до настоящего времени нахожусь у ней, потому как ее муж со службы не вернулся, и я с ней живу как с женой уже 8-й год, но членом Мишагинского земельного общества не числюсь до сих пор, документов на руках никаких не имею…», – сообщал о себе бывший венгерский военнопленный Имре Беретваш, ходатайствуя о приобретении советского гражданства в 1926 г.16 Австриец Степан Дьячук, проживавший в деревне Шахматовой Каргапольского района Шадринского округа Уральской области, также был женат «незарегистрированным браком», равно как и другой австриец, Яков Шмидт, обосновавшийся в с. Ключевском (Ключи) Далматовского района того же округа и области17.
При очевидной проблематичности установления коэффициента брачности военнопленных можно уверенно говорить о типичных для них закономерностях брачного выбора. Выбор этот практически в любом случае предполагал мезальянс – и прежде всего мезальянс этноконфессио-нальный. Кроме того, невозможность свободного изменения демографического статуса, диктуемая режимными особенностями плена как такового, удлинила безбрачный период жизни пленных и способствовала широкому распространению неравных браков между ними и русскими невестами. Скудные сведения табл. 3 показывают, что в 25% случаев разница в возрасте между супругами измерялась двузначными числами и доходила до показателя в 20 лет.
Семейные пары, образованные пленными иностранцами и российскими гражданками (1917–1922 гг.)18
Таблица 3
|
Муж |
Год рождения |
Жена |
Год рождения |
Разница в возрасте |
|
Байч Николай |
1894 |
Клавдия |
1897 |
3 |
|
Вехнер Юзеф |
1892 |
Евгения |
1885 |
7 |
|
Гриншпунт Южак |
1881 |
Афанасия |
1901 |
20 |
|
Гроссек Антон |
1890 |
Мария |
1895 |
5 |
|
Добош Иосиф |
1893 |
Анна |
1901 |
8 |
|
Кецери Стефан |
1897 |
Мария |
1891 |
6 |
|
Коваси Георгий |
1880 |
Екатерина |
1871 |
9 |
|
Конд Лазарь |
1887 |
Фроня |
1880 |
7 |
|
Корн Карл |
1894 |
Анастасия |
1896 |
2 |
|
Котбауэр Эрнст |
1885 |
Мария |
1899 |
14 |
|
Крени Франц |
1895 |
Анна |
1893 |
2 |
|
Левковский Виктор |
1890 |
Софья |
1902 |
12 |
|
Локом Иосиф |
1892 |
Розалия |
1892 |
0 |
|
Лутершмидт Йозеф |
1883 |
Анна |
1900 |
17 |
|
Мельзак Игнатий |
1889 |
Екатерина |
1891 |
2 |
|
Отодюк Николай |
1891 |
Наталья |
1897 |
6 |
|
Ошеницкий Иосиф |
1889 |
Анастасия |
1900 |
11 |
|
Пенкала Андрей |
1892 |
Антонина |
1898 |
6 |
|
Пунчу Михаил |
1892 |
Акулина |
1895 |
3 |
|
Солонтай Михаил |
1891 |
Антонина |
1900 |
9 |
|
Фритман Стефан |
1890 |
Антонина |
1902 |
12 |
|
Троян Михаил |
1893 |
Агафья |
1897 |
4 |
|
Хардукаш Симон |
1893 |
Мария |
1898 |
5 |
|
Янкович Франц |
1895 |
Лидия |
1899 |
4 |
Возрастной мезальянс во многом был следствием того, что рост брачной активности бывших вражеских военнослужащих пришелся на «финальный» период плена – период после большевистского переворота. Новая власть, в конце 1917 г. освободив пленных от «тюремно-лагерного режима», даровать им свободу в полном смысле этого слова не торопилась19. Ко времени возвращения домой, которое растянулось аж до середины 1920-х гг., Россия для многих военнопленных Первой мировой войны уже перестала быть чужой, поэтому часть их успели обзавестись здесь не только женами, но и детьми. В семье военнопленного Ивана Ковача, к примеру, в 1919 г. родился сын, в семьях военнопленных Стефана Валашека и Яноша Ковача к концу 1921 г. уже имелось по двое детей, а у Карла Салаи – трое20.
Освоение пленными новых ролей – ролей отцов и мужей – стало для многих из них главной причиной отказа от репатриации. «Прошедшие 12 лет в свободной республике, независимой от гнета капитала, показали, что я здесь буду свободным и равноправным гражданином в стране тру- дящихся. Имея же желание жить и оставаться навсегда здесь, в Российской Федеративной Социалистической Республике, прошу Уральский облисполком зачислить меня в русское гражданство», – писал уже упомянутый военнопленный Яков Шмидт, явно лукавя. Вероятнее всего, предпочесть родине чужбину его заставила отнюдь не классовая сознательность, а наличие жены и четверых детей21. Вместе с тем смена пленными их демографического статуса не предполагала обязательного вклада в положительную динамику народонаселения. Подавляющее большинство их к 1925 г. покинуло Россию (СССР), увезя с собой не только жен и детей, но и других «нажитых» на чужбине родственников. «Ввиду того что мои две дочери вышли замуж за австрийских подданных, в настоящее время они со своими мужьями собираются ехать в Австрию. Я лично, их мать, все время слабая женщина, не умеющая зарабатывать себе на жизнь, живу на иждивении моих дочерей. Лично мне остаться здесь совершенно невозможно, они без меня тоже не могут поехать. Я сама вдова, не имею никаких средств к существованию, а потому прошу Пленбеж войти в мое несчастное положение и причислить меня к пленным, имеющим возможность в настоящее время вернуться на родину», – обращалась Рива Абрамовна Сензерлихт в отдел управления Екатеринбургской губернии в июне 1920 г.22 Препятствий для выезда за рубеж тещи бывших военнослужащих австровенгерской армии Герстмана и Гринфельда местные власти не нашли, позволив счастливому семейству удалиться восвояси23.
Очевидно, что приведенный и аналогичные ему факты, фиксируемые архивными документами, превращают вопрос о демографическом поведении пленных в еще более запутанный, чем можно было себе представить. В любом случае, будь то случай позитивного или негативного влияния на демографическую статистику, факт этого влияния нередко оказывался основой для сегментации, сегрегации пленных по тем или иным признакам, позволяющим внести в их собирательный образ те или иные коррективы. Задача реконструкции коллективного портрета обезоруженных неприятельских военнослужащих, таким образом, не может сводиться только к воссозданию динамических рядов тех или иных показателей. Помимо того, она предполагает восполнение далеко не полного списка тех черт, которые в большей или меньшей степени были характерны для облика пленных, что требует не только продолжения архивных «раскопок», но и поиска действенных методик прочтения уже введенных в научный оборот источников.
Список литературы Военнопленные Первой мировой войны на Урале. К реконструкции коллективного портрета
- Волков Е. З. Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет. М.; Л., 1930.
- Врачебно-санитарная хроника Пермской губернии. 1914. № 12; 1915. № 1-2; 1916. № 1-2, № 5-6.
- гергилева А. И. Военнопленные первой мировой войны на территории Сибири: автореф. дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 2006.
- Гинзбург К. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни//Нов. лит. обозрение. 1994. № 8.
- Государственный архив административных органов Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 25299, 29874.
- Государственный архив в г. Шадринске (далее -ГАШ). Ф. 257-р. Оп. 2. Д. 104, 124, 187.
- Государственный архив Пермского края. Ф. 65. Оп. 3. Д. 82; Ф. 214. Оп. 1. Д. 16.
- Государственный архив Свердловской области. Ф. 24. Оп. 20. Д. 2829; Оп. 26. Д. 43; Ф. 45. Оп. 1. Д. 275, 1044, 1100; Ф. 55. Оп. 1. Д. 982; Ф. 72. Оп. 1. Д. 5668; Ф. 183. Оп. 1. Д. 70; Ф. 435. Оп. 1. Д. 1738; Ф. 511-р. Оп. 1. Д. 201, 202, 204; Ф. 643. оп. 3. Д. 1882; Оп. 4. Д. 357; Ф. 730. Оп. 1. Д. 119. Ф. 1646-р. Оп. 1. Д. 40.
- Интернационалисты: Участие трудящихся стран Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе за власть Советов. М., 1987.
- Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. М., 2004. Кн. 5.
- Ниманов Б. И. особенности и основные факторы содержания и хозяйственной деятельности военнопленных в 1914-1917 годах в Поволжье: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2009.
- Пермский вестник Временного правительства. 1917. 16 июня.
- Прохоров Б. Б. Здоровье россиян за 100 лет//Человек. 2002. № 2.
- Россия в Мировой войне 1914-1918 года в цифрах. М., 1925.
- Тобольский филиал государственного архива Тюменской области. Ф. 152.