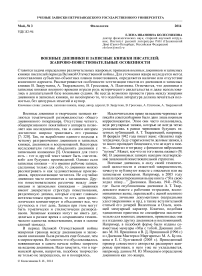Военные дневники и записные книжки писателей: жанрово-повествовательные особенности
Автор: Колесникова Елена ивановнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (140), 2014 года.
Бесплатный доступ
Ставится задача определения различительных жанровых признаков военных дневников и записных книжек писателей периода Великой Отечественной войны. Для уточнения жанра исследуется метод сопоставления субъектно-объектных планов повествования, определяется наличие или отсутствие косвенного адресата. Рассматриваются особенности эстетизации текстов из дневников и записных книжек В. Закруткина, А. Твардовского, В. Гроссмана, А. Платонова. Отмечается, что дневники и записные книжки военного времени играли роль исторического свидетельства и даже использовались в доказательной базе военными судами. Не всегда возможно провести грань между жанрами дневников и записных книжек, но неоспоримо то, что подобная литература должна печататься полностью, без цензурных изъятий и купюр.
Дневник, записная книжка, жанр, автор, адресат, в. закруткин, в. гроссман, а. платонов, а. твардовский
Короткий адрес: https://sciup.org/14750651
IDR: 14750651 | УДК: 82-94
Текст научной статьи Военные дневники и записные книжки писателей: жанрово-повествовательные особенности
Военные дневники и творческие записки являются тематической разновидностью общего дневникового гипержанра. Отсутствие четкого, общепризнанного понятийного аппарата позволяет как исследователям, так и самим авторам достаточно широко трактовать его границы [7; 320]. Так, не выработано единого подхода к четкому разграничению дневников и записных книжек, дневников и воспоминаний. Некоторые исследователи готовы объединить дневники с записными книжками [5]. Основания для этого есть – тот и другой текст может быть «заготовкой» для будущих произведений. Однако если записные книжки – это именно рабочие записи, сделанные только для себя, то дневники можно рассматривать и как художественные произведения, предполагающие читателя. Не случайно дневники часто печатаются с заглавиями. Другое повествовательное различие между дневниками и записными книжками – дневники имеют дискретную структуру повествования, разделенную датами, которые служат главным метатекстовым признаком, то есть дата хронологически комментирует и объединяет все, что случилось в этот день. Записи при этом могут быть тематически и стилистически разнородными. Записные книжки могут не иметь дат, делаться в разное время с сохранением тематического единства повествования, имея в основе единый замысел.
В период Великой Отечественной войны жанровая граница между дневниками и записными книжками была размыта еще больше, чем в мирное время. Во многом это обусловливалось появившимся в самом начале войны запретом на ведение дневников. Надо заметить, что в германской армии, напротив, подобное творчество не только не запрещалось, но и поощрялось.
Исключительное право на ведение черновых записей в советской армии было дано лишь военным корреспондентам. Этим они часто пользовались, ведя регулярные записи, которые не всегда четко укладывались в рамки черновиков будущих газетных публикаций. А. Т. Твардовский, например, 10 февраля 1942 года пишет жене: «Захватил пару тетрадочек, буду стараться вести деловые записи, а то много пропадает бесценного, что не идет в газете… Захватил и тетрадку с финскими набросками “поэмы”. Может, кое-что из того вновь оживет» [9; 66]. В дневниковых записях находим подтверждение заявленной повествовательной стратегии.
Военные дневники, в силу своей тематической целостности и сюжетной завершенности, зачастую публикуют вместе с письмами или же записными книжками. Например, в 2005 году вышла процитированная выше книга «“Я в свою ходил атаку…” Дневники. Письма. 1941–1945», где были опубликованы дневники А. Т. Твардовского вместе с рабочими тетрадями, воспоминаниями жены, перепиской с женой военного периода, личными документами (наградными удостоверениями и пр.), а также вступительной статьей его дочерей Валентины и Ольги, носящей мемуарный характер. Конечно, подобная эдиционная практика не специфична исключительно для военных дневников, применялась она и к изданию других дневников и воспоминаний. Например, в подобной форме были изданы совместные мемуары «Мы с тобой. Дневник любви» М. М. Пришвина и В. Д. Пришвиной (1996 г.) и «Дневник Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова и Е. С. Булгаковой (2005 г.). Приведенный пример совместного авторства расширяет жанровые признаки, в него уже не укладывается, например, данное М. Ю. Михеевым определение дневников как эго-жанра.
Несмотря на эклектичность использованных источников, книга Твардовского имеет очень цельный характер, обусловленный завершенностью описываемого события. Это один из жанровых признаков военного дневника. Если в обычных дневниках отсутствует единый авторский замысел, не известен момент завершения, поскольку не просматривается общая перспектива событий, то военные дневники связаны с главным событием, тематически обозначенным началом и окончанием войны.
Главным коммуникативным признаком дневникового повествования, по мнению исследователей (А. Зализняк, М. Михеев, А. Никандрова и др.), является совпадение фигур автора и адресата. Если автор обращается прежде всего к себе самому, как, например, В. Гроссман, то в тексте не встречается поясняющих записей для чужих глаз. Фамилии и события, известные самому писателю, употребляются без дополнительных сведений. Все это при публикации делает комментатор. Жанр дневника здесь наиболее «чист». Однако чаще в дневниках присутствует косвенный адресат. Степень наложения автора и косвенного адресата определяет его повествовательные особенности. В дневниковой записи В. Закруткина от 26 декабря 1941 года читаем: «…Сумерками был с Зеленковским (художником) в ССП на Социалистической 101. Сожгли бумаги» [4; 149]. Пояснение в скобках делается для так называемого косвенного адресата, поскольку сам автор прекрасно знает, кто такой Зеленковский. Это уже не совсем личный дневник: он подразумевает других читателей.
У Закруткина, готовящего дневник и для других, присутствует эстетическая конвенцио-нальность. Целевая установка его как автора существует в активном ценностном контексте: заведующий кафедрой литературы Ростовского педагогического института и автор почти завершенной докторской диссертации о Льве Толстом чувствует себя обязанным писать с оглядкой на наследие русской словесности. В его сознании присутствует жанровая модель, и пишущий эксплицирует ее признаки. Видя русскую литературу как адресата, он, сам того не зная, продолжает традиции военных дневников периода Первой мировой войны, например дневника Ф. Степуна, особенностью которого является его обращенность к русской литературе – Достоевскому, Тургеневу, Л. Толстому. Для Закруткина дневник стал инструментом жиз-нестроительства. Придя с фронта, он не смог вернуться к прежней деятельности и прежнему образу жизни, осознав, что «война его сделала писателем». Отказавшись от городских удобств и преподавательской деятельности, он поселяется в глухой станице. Помимо писательства, сам строит дом, сажает сад, как депутат активно участвует в жизни односельчан.
Записи В. Гроссмана имеют высокую степень самоадресации, то есть несут в себе дневниковый жанровый признак. В то же время они явно ориентированы на будущее художественное произведение и его читателя, и, следовательно, в тексте, кроме автора, появляется повествователь, а жанр дневника сближается с жанром записной книжки. Например, эпизод «Всю ночь лежал мертвый летчик на прекрасном снежном холме – был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме» [3; 162]. Эпизод без изменений перекочевал из дневника в роман «Жизнь и судьба», то есть факт был зафиксирован практически как окончательный эпизод, по типу записи в творческой книжке. Многие заметки Гроссмана имеют столь же высокую степень эстетизации. «Вторая ночевка недалеко от хутора Михайловского. Красивая очень деревня, на опушке дубового леса, – Под-ывотье. Женщины затопили печь. Милая девочка с умными темными глазами принесла маленькую скамеечку, радушно усадила меня и сказала: “Вы на папкином месте сидите”. Печально тепло чужого очага» [2; 23]. Беллетристический потенциал подобных записей позволяет их прочитывать как готовые новеллы.
В военных записях как никогда много зарисовок экзистенциального характера, когда хроника боевых действий сочетается на равных с историей накопления человеческого опыта в уникальных обстоятельствах войны. Например, в записях А. Платонова читаем: «Нет более сложного явления во всей вселенной действительности, чем бой… Нигде нет ничего таинственнее, чем самый простой бой, то есть сражение насмерть больших групп людей, вооруженных огнем и машинами. Пусть будет цветок, организм живого существа, частичка вещества, Млечный путь – все это проще, это доступнее пониманию, чем бой двух батальонов. На земле и на небе нет большей тайны, чем битва» [6; 518–519].
У Гроссмана этот уникальный опыт передается как устоявшийся: «На рассвете лучше всего воевать, как на работу, утрецом, еще темненько, он бьет, а ты его видишь, все его точки видать, к селу подходим, уже светло становится» [2; 24]. Война как повседневность, как работа – традиционная черта русской батальной литературы.
В военных дневниках cистема отражения действительности существует в двух повествовательных пластах. Обыденная миметическая информативность сочетается с мифологической повествовательной стихией.
Примечательно, что изначально образ врага заведомо не персонифицировался, а представлялся как некое абстрактное зло, чуждое и противостоящее всей привычной картине мира. Например, в «Дневниках…» А. Твардовского в обыденный информативный поток встраивается фраза: «Злодей уже успел на нашей земле воз- вести укрепления, вцепился в избы, поселки, города, и выбивать его придется живосилом» [9; 68], то есть враг наделяется обобщенной номинацией «злодей», который, подобно сказочному чудищу, способен укрепляться, «вцепляться» в то, что дорого всем остальным, и побеждать которого предстоит не просто оружием, а неким «живосилом». Такой былинно-эпический наречный неологизм использует писатель для обозначения силы, способной одолеть неправильное положение вещей в сегодняшнем мире. О подобной же силе читаем во фронтовых записях Гроссмана (впоследствии они вошли в очерк под названием «Направление главного удара»): «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?» Эта цитата как анонимная запечатлена на одном из 100-метровых памятников мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде. За время оформления архитектурного комплекса, сооружаемого с 1959 по 1967 год, имя Гроссмана исчезло из литературного процесса, но эту цитату никто тронуть не посмел, настолько символично узнаваемой она стала.
Общепринято, что мифологические архетипы со свойственными им стилем и образностью характерны для любой пропагандистской продукции: идеологии, массовой культуры, плакатов, рекламы и пр. Образы идеолого-психологического характера широко используются для поднятия национально-патриотического духа в любой войне. Но, думается, проблема несколько глубже, чем просто наличие в военных дневниках речевых клише и образных штампов в духе господствующей идеологии и общепринятой военной этики. Дневник – это событие речи, порождение ментального состояния личности, находящейся в определенных условиях. Встает психолингвистическая и социокультурная проблема: насколько сконструирован образ врага пропагандой и насколько он существует независимо от внешних факторов в сознании человека в дни войны, то есть является ли в основе своей образ врага идеологемой или же это психологический архетип.
Уже на материале дневников Первой мировой войны исследователи выделяют противоположные тенденции – мифологическое миропредставление с жестким разделением на своих и чужих, когда противник не имел человеческого лица, а был лишь абстрактным врагом, и попытку взглянуть на события войны как на всеобщее бедствие с общечеловеческой точки зрения.
В дневниковых записях Гроссмана видим установку показать войну вне мифологем . Так, в записях 1941 года читаем: «Кутузовский миф в стратегии 1812 года. Кровавое тело войны обряжают в белоснежные одежды идеологической, стратегической и художественной условностей. Миф первой и второй Отечественной войны» [1].
В его записках, изданных на английском языке в 2005 году, описаны расстрелы дезертиров, самострелы на фронте наряду с рассказами о героизме русских солдат. Одна из его последних записей, сделанных 9 мая, содержит такую зарисовку. В день капитуляции на скамейке в зоологическом саду раненый немецкий солдат обнимает девушку – сестру милосердия: «Они ни на кого не глядят. Мир для них не существует. Когда спустя час я прохожу снова мимо них, они сидят в той же позе. Мир не существует, они счастливы» [1]. Эти записи оставляют впечатление подлинной правды, в них отсутствуют элементы пропаганды. Точность зафиксированных событий имела бóльшую общественноисторическую значимость, чем в мирное время.
Содержащиеся в дневниках факты становились основой для определения степени воинских заслуг героев либо вины военных преступников. Так, например , составленная В. Гроссманом и И. Эренбургом «Черная книга» цитировалась советскими обвинителями на Нюрнбергском процессе. Военный дневник В. Закруткина «Кавказские записки» впоследствии использовался Чрезвычайной государственной комиссией СССР по выявлению военных преступлений фашистской Германии на территории Краснодарского края [8].
Содержание дневников могло свидетельствовать и против собственной армии, как это стало с дневниками В. Гроссмана, запечатлевшими недостойное поведение некоторых советских воинов на территории Германии. Здесь проявляется еще одно видовое свойство дневников – оценоч-ность. При этом в военных записях сталкиваются две сильные позиции: выражение патриотических убеждений и нравственного императива общечеловеческих ценностей [7; 324].
Военные записи Гроссмана, опубликованные в России, содержат купюры, относящиеся к периоду пребывания советских войск на территории Германии. Эти записи публикуются в полном виде за рубежом. Например, дневники Гроссмана были изданы в Англии в составе книги «Писатель на войне» в 2005 году [10], и комментарии к ним обретали порой спекулятивный характер. Известный военный историк Э. Бивор в комментариях говорит о двух миллионах изнасилованных немецких женщин. Тогда как, по данным исследователей из других стран, в том числе немецких, их число не могло превысить ста тысяч. Его комментарии отмечают бόльшую тематическую свободу Гроссмана в дневниках, чем в сделанных потом на их основе газетных публикациях в «Красной звезде».
Думается, комментатор не учитывает, что газетная публицистика, личный дневник и художественное произведение – это жанры, имеющие разные задачи и содержащие различные функциональные стили речи. И трансформация деталей дневника в газетную статью несет сле- ды не столько цензурной правки, сколько признаки конвенциональности с принятой во всем мире этикой военной журналистики.
Надо различать базисные и прикладные идеи в период войны. Какой бы философской системы не придерживалось государство и воюющие армии, в период войны они руководствуются древними наработками военной науки. А искусство побеждать всегда включало в себя не только физическую, но и пропагандистскую мощь. Этика любой воюющей армии запрещает говорить о собственных потерях и проблемах и о враге как о личности с конкретными чертами и характером. Думается, что дневник, сам по себе являясь оце- ночным жанром, не должен при издании страдать от исследовательской оценочности.
Таким образом, рассмотренные особенности военных записей свидетельствуют о том, что в силу сложившихся цензурных условий жанр дневника не проявлялся в чистом виде, тогда как «творческие записки» были легитимны. Но зачастую жанровые особенности дневника проступали среди фронтовых записей, а то и просто их подменяли. С точки зрения структуры повествования, коммуникативных стратегий, способа отражения действительности это специфическая жанровая разновидность, которая нуждается в дальнейшей исследовательской разработке.
Список литературы Военные дневники и записные книжки писателей: жанрово-повествовательные особенности
- Гроссман В. Годы войны//Гроссман [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://royallib.ru/book/grossman_vasiliy/godi_voyni.html/
- Гроссман В. Записки о войне//Огонек. 1946. № 16-17. Апрель. С. 23-24.
- Гроссман В. Из записных книжек//Вопросы литературы. 1987. № 6. С. 157-177.
- Закруткин В.А. «Дорогами большой войны»//Дон. 1988. № 3. С. 149-155.
- Михеев М. Дневник как эго-текст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 264 с.
- Платонов А. Сын народа (Офицер Простых)//Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 3. СПб.: Наука, 2004. С. 518-519.
- Спиридонова И.А. «Записные книжки» в структуре военной прозы А. Платонова//Пушкинские чтения -2007: Материалы ХII междунар. науч. конф. «Пушкинские чтения» (6-7 июня 2007 г.). СПб.: Изд-во ЛГУ им.А.С. Пушкина, 2007. С. 320-326.
- Степаненко С.Г. Деятельность Чрезвычайной государственной комиссии по выявлению военных преступлений фашистской Германии на территории Краснодарского края: Дисс.. канд. ист. наук. Майкоп, 2010. 215 с.
- Твардовский А.Т. «Я в свою ходил атаку.». Дневники. Письма. 1941-1945 гг. М.: Вагриус, 2005. 400 с.
- A Writer at War: Vasily Grossman with the Red Army 1941-1945/Еdited by Antony Beevor and Luba Vinogradova. London: Harvill Press, 2005. 400 p.