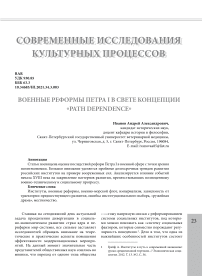Военные реформы Петра I в свете концепции "path dependence"
Автор: Иванов Андрей Александрович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Современные исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена оценке последствий реформ Петра I в военной сфере с точки зрения политэкономии. Большое внимание уделяется проблеме долгосрочных трендов развития российских институтов на примере вооруженных сил. Анализируется влияние событий начала XVIII века на закрепление паттернов развития, препятствовавших полноценному военно-техническому и социальному прогрессу.
Институты, военные реформы, военно-морской флот, империализм, зависимость от траектории предшествующего развития, ошибка институционального выбора, ружейная драма, местничество
Короткий адрес: https://sciup.org/170191652
IDR: 170191652 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2021.34.3.003
Текст научной статьи Военные реформы Петра I в свете концепции "path dependence"
Ставшая на сегодняшний день актуальной задача преодоления дивергенции в социально-экономическом развитии стран ядра и периферии мир-системы, все сильнее заставляет исследователей обращать внимание на теоретические и практические аспекты повышения эффективности модернизационных мероприятий. На данный момент значительная часть представителей общественных наук сошлись во мнении, что переход от одного типа общества к кккгому напрямую связан с реформированием системы социальных институтов, под которыми можно понимать как «систему социальных факторов, которые совместно порождают регулярность поведения»1. Дело в том, что одна из важнейших особенностей институтов состоит в длительности существования – при изменяющемся с течением времени составе участников подобные структуры способны воспроизводить установленные внутренними нормами модели поведения.
С одной стороны, эта черта является значимой в том смысле, что именно устоявшиеся нормы поведения, по мнению американского экономиста Д. Норта, «являются важнейшим источником стабильности человеческих отно-шений»2, вследствие чего возможна минимизация издержек, эффективное распределение и защита прав собственности, качественный обмен информацией и т. д. С другой стороны, из-за ограниченной рациональности политических лидеров и элит решения, принимаемые при формировании социальных институтов, могут быть ориентированы на достижение лишь кратковременных успехов, а в долгосрочной перспективе эти решения способны привести к негативным социально-экономическим последствиям и торможению динамики развития социума. Это явление получило название «ошибка институционального выбора» и часто связывается с именем историка П. Дэвида, раскрывшего с данной точки зрения причины широкого распространения клавиатурной раскладки QWERTY, несмотря на ее сравнительно низкую эффективность3.
Рассуждения такого характера можно встретить уже у К. Маркса, по словам которого «традиции всех прошедших поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых», то есть способность индивидов и групп направлять развитие общества ограничены и зависят от обстоятельств, «которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»4.
Соответственно, институты в рамках длительной временной протяженности (пользуясь терминологией Ф. Броделя) способны как способствовать динамичному развитию общества в экономическом или политическом отношении, так и консервировать отсталость. Причем, совершение «ошибка институционального выбора» вполне может быть результатом исторической случайности, которую потом сложно исправить – ошибочно принятое решение приобретает характер традиции и закрепляются в поведенческих паттернах, как элиты, так и рядовых граждан. После этого отказ от следования таким шаблонам в пользу адаптации более эффективных норм требует слишком больших единовременных затрат, поэтому ситуация может не меняться столетиями.
Данный феномен получил в научной литературе название «Path Dependence», «зависимость от траектории предшествующего развития» или просто «эффект колеи», и благодаря П. Дэвиду и У.Б. Артуру5 стал одним из краеугольных в основании исторического институционализма. Ключевой задачей исследований такой тематики стало выявление непредвиденных последствий от создания того или иного института, обусловленных как отсутствием у инициаторов этих реформ способностей к долгосрочному прогнозированию, так и элементарной нехваткой у них информации, необходимой для принятия эффективных решений. Общим для специалистов данного направления стал методологический посыл о возможности продолжительного воздействия на общество случайных событий про-шлого6. Соответственно, от историков требовалось находить в развитии стран так называемые «критические моменты», связанные с избранием одной из нескольких возможных альтернатив развития и характеризовать «исторические условия» совершения этого выбора. Получалась последовательность «исторические условия» – «критический момент» – «непредвиденные последствия» («наследие»). Опираясь на данную методологию, Д. Норт, С. Штейнмо, П. Пирсон, Р.М. Нуреев и другие исследователи смогли связать «эффект колеи» с дивергенцией в социально-экономическом развитии государств «ядра» и «периферии» мир-системы.
Примером роли «исторических условий» может служить появление бразильского нацио- нального боевого искусства – капоэйра, отличительной чертой которого являлось практически полное отсутствие ударов руками (они используются в основном для опоры при нанесении ударов ногами), что сильно ограничивает бойца в достижении успеха в реальной схватке. Причина утверждения этих норм определялась не столько высокой эффективностью такого стиля боя, сколько тем обстоятельством, что капойэра создавалась чернокожими рабами, руки которых, как правило, были скованы цепями, а тренировки им приходилось маскировать под танец.
Не менее яркий пример зависимости современного общества от траектории его предшествующего развития был вскрыт чешско-канадским исследователем В. Смилом. В частности, он обратил внимание, что построение экономики на базе энергосберегающих технологий часто не ведет к снижению потребления, во-первых, поскольку «экономия энергии в одной отрасли увеличивает ее потребление в других сферах»7. Во-вторых, для обслуживания мировой энергетики в ее современном состоянии была создана гигантская по масштабу инфраструктура, которая не может быть ликвидирована одномоментно. Совокупная стоимость вложений в создание систем добычи, переработки, транспортировки и продажи нефтепродуктов составляет около 5 триллионов долларов США, которые в случае отказа от нефти в качестве энергоресурса пришлось бы списать как убытки. Отсюда, даже при наличии потенциальной возможности, быстрый переход мировой энергетической системы к использованию наиболее современных технологий и материалов представляется маловероятным.
Применительно к отечественной истории одним из периодов, вызывающих споры с точки зрения эффективности проведенных институциональных преобразований – то есть, «критическим моментом» – является первая четверть XVIII века. Недаром, по словам социолога и культуролога А.С. Ахиезера, реформы Петра I являлись прогрессом, «стимулирующим регресс»8.
Поскольку первого российского императора во многом занимали вопросы организации военной службы, именно в данной области стоит искать возможные причины последующего торможения динамики социально-экономического и политического прогресса России.
В период проведения реформ Петр Великий не скрывал, что создаваемому им государству необходимо было перенимать передовые зарубежные достижения для интенсификации развития в самых разных областях – от военного дела до медицины и образования. Тем не менее, таковые заимствования, вероятно, являлись не самоцелью, а были призваны обеспечить трансформацию Московского царства в государство имперского типа, которое, как правило, отличается от других стран военной мощью, активной колониальной политикой, наличием общепринятой идеологии.
В принципе, следуя данной формуле, к идеологическим преобразованиям Петра I можно отнести и реформу церкви, и изъятие церковнославянского языка из сферы государственного делопроизводства, а в репрезентации Санкт-Петербурга огромную роль играли образы Рима и Константинополя, что органично укладывалось в идеологическую формулу «третьего Рима». Колониальная политика Российской Империи в рассматриваемый период не была отмечена значимыми достижениями, однако и в этом направлении были проделаны некоторые шаги – в частности, в период правления Петра Великого были запланированы и организованы несколько экспедиций с целью создания русских колоний в Азии и Америке. Впрочем, на тот момент страна была вынуждена ограничиться «внутренними колониями», к которым относились присоединенные прибалтийские (Ингрия, Эстляндия, Лифляндия) и прикаспийские земли (провинции Гилян и Мазендеран).
Что касается военных реформ, призванных повысить и численность, и боеспособность вооруженных сил, то, как правило, считается, что в данном отношении необходимый эффект был достигнут, свидетельством чего была победа над Швецией в Северной войне. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении можно заметить ряд спорных решений, принятых Петром I и его сподвижниками при реформировании сухопутной армии и строительстве военно-морского флота
Так, создание решения о базировании флота на Балтийском море вместо Белого моря, казавшегося менее удобным из-за удаленности от Европы и регулярного замерзания, не позволило России в полной мере использовать потенциал морской державы. Не способствовало преодолению этой проблемы и последующее основание Черноморского флота при Екатерине II. Эти моря являются закрытыми, поэтому не слишком выгодны с геополитической точки зрения – ограниченность проливами мешала полноценно вести боевые действия на данных морских театрах. Конфликтные отношения Российской Империи с Германией, Турцией и Швецией приводили к регулярным блокадам проливов, поэтому отечественный военно-морской флот далеко не всегда мог полноценно участвовать в достижении побед в войнах XVIII–XX веков. Северное направление в этом отношении в длительной перспективе сулило большие выгоды, так как, по замечанию П.В. Федорова, оттуда открывался «прямой выход в Атлантический океан и в Северную Европу, что выгодно отличает его от балтийского и черноморского путей»9. Тем не менее, принять подобное неоптимальное решение Петра I, видимо, заставила необходимость достижения краткосрочных успехов.
Применительно к сухопутной армии критике среди исследователей часто подвергается система рекрутского комплектования вооруженных сил. Ключевой проблемой, вероятно, можно признать пожизненный характер службы, вследствие чего армия нередко становилась местом концентрации маргинальных элементов – в солдаты часто пытались направлять неугодных крестьян, отличавшихся буйным нравом, наличием вредных привычек или не обладавших трудолюбием и полезными навыками10. Фактически, авторитет военной службы был невысок, особенно если учесть специфику быта солдат. По воспоминаниям графа А.Ф. Ланжерона, солдаты были вынуждены постоянно отдавать от трети до половины своего жалования старослужащим для приобретения продуктов или повозок для транспортировки больных и раненых, так как из государственной казны средства на подобное не выделялись.
Наконец, неожиданно большое значение приобрела тактика использования огнестрельного оружия, утвердившаяся в начале XVIII века. Дело в том, что Петр I неоднократно призывал учить опытных солдат ведению прицельного огня: «во время стрельбы не спешить», а поражать врага «неспешным добрым прицеливанием»11. Проблема заключалась в том, что в это же время многие европейские армии делали ставку как раз на скорострельность, так как гладкоствольное оружие XVIII века не отличалось высокой точностью. Заложенная первым императором тенденция на долгое время сохранилась в русской армии, и даже попытки фельдмаршала Б.Х. Миниха переориентировать модель подготовки военнослужащих на использование скорострельности огнестрельного оружия успеха не достигли.
В результате армейское командование старалось выбирать для реализации проекты и идеи, направленные на повышение точности, а не скорострельности систем вооружения. Например, в 1740-х годах отечественный механик А.К. Нартов создал скорострельную мортирную батарею, которая не получила признания у руководства вооруженных сил в отличие от другого его изобретения – оптического прицела для артиллерии (за эту разработку он получил премию в 5000 рублей).
Аналогичный случай имел место накануне Первой мировой войны, когда полковник В.Г. Федоров разработал новый для отечественных вооруженных сил тип стрелкового оружия – автоматическую винтовку (автомат). Оружие могло вести стрельбу очередями, отличалось сравнительно небольшим весом и хотя разработанный для него патрон уступал по мощности патронам магазинных винтовок, стоявших на вооружении, широкого распространения он не получил по другим причинам. Во-первых, российская промышленность в условиях войны не могло позволить себе роскошь начать производство нового для себя типа патронов, поэтому в 1915 году В.Г. Федоров приспособил свое изобретение к стрельбе японскими патронами, которые поставлялись в Российскую Империю союзниками по Антанте. Во-вторых, материалы, использованные для сборки автомата и боеприпасов к нему, отличались крайне низким качеством. Но главное – высокая скорострельность оружия в сравнении с магазинными винтовками, являвшаяся одним из его главных преимуществ, была воспринята армейским руководством как недостаток, поскольку предполагала увеличение выпуска патронов, а значит – выделение дополнительных производственных мощностей и повышение издержек.
Не удивительно, что именно в западных странах, где военная культура была ориентирована на использование преимущества в скорострельности, были созданы и многозарядный револьвер (в 1836 году он был выпущен в США компанией С. Кольта), и самозарядный пистолет (первенство в этом вопросе оспаривают Франция, Австрия и Германия), а также станковый пулемет (первый патент на подобное оружие получил в 1862 году американец Р. Гатлинг), ручной пулемет (создан датчанином В. Мадсеном в конце XIX века) и пистолет-пулемет (появился почти в одно и то же время в Австрии и Италии).
Таким образом, в системе международного разделения труда в XVIII – XIX веках лидерство на рынке военных технологий принадлежало странам Запада, что заставляло руководство русской армии регулярно заимствовать их достижения для сохранения паритета в случае начала конфликта. Показателен в этом отношении период реформ Александра II, когда перевооружение армии под руководством военного министра Д.А. Милютина превратилось (по его же словам) в «ружейную драму»12. В связи с интенсивным развитием стрелкового оружия на Западе в период с 1866 по 1870 годы Военное министерство, чтобы армия не отставала от потенциальных противников, поочередно было вынуждено принять на вооружение 5 разных типов иностранных винтовок. Это оказалось сопряжено с колоссальными финансовыми издержками.
Как правило, в качестве преимуществ петровских преобразований принято отмечать регламентацию военной службы, покончившую с неэффективными пережитками прошлого периода – например, местничеством, из-за которого наиболее талантливые полководцы не могли рассчитывать на допуск к командованию вследствие низкого статуса своей семьи. Формально указ об отмене местничества был принят в 1682 году, и реформы Петра I в данной области – принятие Артикула воинского и Табели о рангах, уравнение бояр и дворян, возможность получения потомственного дворянства за успешную службы и т.д. – должны были лишь зафиксировать роль армии, как социального лифта.
Однако можно утверждать, что в неявной форме институт местничества продолжал существовать, как минимум, до распада Российской Империи. В частности, в российской армии существовала система старшинства (периодически даже издавались «Списки офицеров по старшинству»), в соответствии с которой производилось не только повышение по службе, но и решались противоречия между офицерами (к примеру, при равенстве званий и должностей большим авторитетом пользовался тот из командиров, кому звание было присвоено раньше).
Сходная ситуация наблюдалась и во взаимоотношениях между разными родами войск и воинскими частями. Например, традиционными для России (и других стран Европы) были конфликты между строевыми офицерами и офицерами Генерального штаба, имевшими привилегированное положение и набор льгот при прохождении службы. Кроме того, элитарное положение в вооруженных силах занимали гвардейские и гренадерские части, в которых искусственно придумались особые правила для комплектования офицерского состава. Частью армейских порядков в Российской Империи даже было более авторитетное положение артиллерийских частей по сравнению с пехотными. Иными словами, военные реформы начала XVIII века не привела к прогрессу в преодолении искусственных барьеров при построении военной карьеры.
В свете данного подхода даже сам по себе процесс империализации Московского государства может быть отнесен к ошибкам институционального выбора. Конечно, межрегиональная интеграция и идеологический централизм, свойственный империям, позволяет решить целый ряд проблем социального, политического и экономического характера (к примеру, мобилизацию населения для реализации крупных проектов). Однако наряду с этим затраты на подавление антиправительственных акций эксплуатируемого населения подчас превышают получаемые выгоды, а чрезмерная идеологизация вынуждает проводить активную внешнюю политику для поддержания статуса великой державы. Ведь, как заметил Н.Н. Лисовой, в общем смысле империя – это «структура, которая берет на себя ответственность за мировой миропорядок»13, что сопряжено с несением демографических и финансовых издержек.
Резюмируя, можно сделать заключить, что институциональные реформы первой четверти XVIII века содержали в себе целый ряд изъянов, служивших препятствием на пути последующей успешной модернизации. Авторитет Петра I, а также необходимость больших затрат на перестройку созданной им системы долгое время не позволяли российским вооруженным силам, как и обществу в целом, в полной мере использовать имевшиеся ресурсы и возможности для повышения эффективности. Лишь институциональный кризис начала XX века и революция позволили пересмотреть основы воинской организации в той степени, которая позволила исправить значительную часть ошибок институционального выбора, допущенных первым российским императором.
Список литературы Военные реформы Петра I в свете концепции "path dependence"
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Т. 1. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1987. 805 с.
- Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке. М.: Воениздат, 1958. 646 с.
- Грейф А. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли // Экономическая социология. 2012. Т. 13. №2. С. 35-58.
- Лисовой Н.Н. Патриарх в Империи и Церкви. // Труды Института российской истории. Вып. 4. М., 2004. С. 40-78.
- Мавродин В.В. Система чешского оружейника Сильвестра Крика на вооружении в русской армии. // Новый часовой. 1994. №2. С. 122-127.
- Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 8. М.: Политиздат, 1957. 736 с.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997.180 с.
- Пантелеев А.Н. Рекрутские наборы в 1812 году. // Альманах современной науки и образования. 2010. №12(43) С. 46-48.
- Смил В. Энергетика: мифы и реальность. Научный подход к анализу мировой энергетической политики. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 272 с.
- Федоров П.В. Центр и северная окраина Российского государства в XVI - XX вв.: динамика стратегических связей: на материалах Кольского Заполярья: автореф. дисс. ... докт. истор. наук. Архангельск, 2009. 50 с.
- Arthur W.B. Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann Arbor, 1994. 201 pp.
- David P.A. Clio and Economics of QWERTY. // American Economic Review. 1985. Vol. 75. №2. P. 332-337.
- Fioretos K.O. Historical Institutionalism in International Relations. // International Organization. 2011. Vol. 65. №2. P. 367-399.
- Лисовой Н.Н. Патриарх в Империи и Церкви. // Труды Института российской истории. Вып. 4. М., 2004. С. 68.