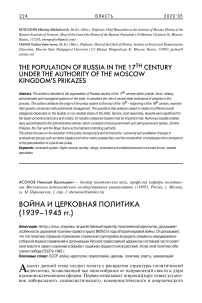Война и церковная политика (1939-1945 гг.)
Автор: Асонов Николай Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2020 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи, опираясь на двойственный характер политической идеологии, раскрывает особенности церковной политики правого крыла ВКП(б) в годы Второй мировой войны. Он доказывает, что эта политика отражала стремление сталинской группировки возродить элементы самодержавно-соборной модели управления и организации Русской православной церкви как составной части советской власти и своего союзника в борьбе с национал-фашистской агрессией. Успех этой политики обеспечил победу СССР в 1945 г.
Ссср, война, идеология, православие, церковь, политика, власть, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170171221
IDR: 170171221 | DOI: 10.31171/vlast.v28i5.7607
Текст научной статьи Война и церковная политика (1939-1945 гг.)
Анализ данной темы следует начать с раскрытия структуры политической идеологии, позволяющей все многообразие ее направлений свести к двум взаимоисключающим сферам. Первая охватывает широкий круг левых установок либерального, социалистического, коммунистического и анархического толка, ориентирующих на строительство прекрасного будущего и отрицающих прежние модели государственного устройства. Вторая представляет установки правого спектра, защищающие исторические традиции и отвергающие космополитизм левых. В 20-е гг. ХХ в. эта сфера пополнилась идеологиями фашизма и нацизма, возникшими как протест против уничтожения этнокультурного лица Европы, идущего сразу с двух сторон. Одна сторона была представлена тотальной либерализацией западной цивилизации, развернувшейся по инициативе США в рамках Версальской системы. Другая шла со стороны СССР, угрожая победой коммунистического интернационала. Для борьбы с ними консервативные силы Германии сплотились вокруг языческих традиций немецкого народа, а романские страны предпочли опереться на принципы католической государственности.
Своеобразие данного исторического периода обостряло внутреннее состояние Советского Союза. Его экономическая и военно-техническая отсталость привела к провалу «кавалерийской атаки на мировой капитал». Ее сменил нэп и теория «потухающей кривой» Л.Д. Троцкого, ориентированная на «широкую товарную интервенцию», превращающую СССР в сырьевой придаток либеральных стран. Аналогичное отношение к нашему государству как придатку передового Запада, из которого надо выжать все возможное для победы «всемирной республики труда», было и у лидеров ІІІ Интернационала, поддержанных левоэкстремистским крылом ВКП(б). Но их планам мешало русское православие, являвшееся основой славяно-православной цивилизации. Расправа с ним вела к истреблению нашего национального лица и толкала на путь заимствования других цивилизационных стандартов, превращая СССР в отсталую окраину тех, кого он должен копировать.
Подобная перспектива не устраивала правое крыло ВКП(б) во главе с И.В. Сталиным, и внутрипартийный конфликт по поводу «детской болезни “левизны”» перешел на государственный уровень. Заняв ряд командных высот, «левые» не хотели понять, что «рабочее движение» требует «не уничтожения национальных различий, а такого применения основных принципов коммунизма (Советская власть и диктатура пролетариата), которое бы правильно видоизменяло эти принципы в частностях, правильно применяло их к национальным и национально-государственным различиям» [Ленин 1987: 273]. По этой причине, несмотря на возражения «левых», В.И. Ленин не стал мешать воссозданию триады духовной власти, «сочетающей монархическое (патриарх), аристократическое (Синод) и демократическое (Собор) правление» [Асонов 2017: 171]. Он знал, что Церковь как важный социальный институт будут использовать враги советской власти, если с ней не договориться на взаимовыгодных условиях. Однако троцкисты предпочли встать на путь конфронтации с духовной властью. Подавление к концу 1930-х гг. левоэкстремистского крыла ВКП(б) помогло спасти в СССР этноцивилизационную основу православия. Как показала Всесоюзная перепись 1937 г., 75% населения считали себя верующими, и переход их на сторону врага вел к гибели Советский Союз. Вот почему главным достижением 1937 г. В.М. Молотов считал отсутствие «у нас во время войны пятой колонны».
Дело в том, что идеологи национал-фашистов и либералов руководствовались римским правилом divide et impera (разделяй и властвуй) и потому смотрели на русское православие как на преходящего союзника, с которым можно будет расправиться после победы над русским коммунизмом. Со времен Оттона ІІІ Саксонского, взявшего на вооружение лозунг: «renovatio imperium Romanorum» («обновление империи римлян») и пожелавшего сделать «вечный город» столицей мировой империи, подавление восточного христианства стало одной из основ политики Запада. Но она так и не получила прочной научно-идеологической базы. Только в середине XІX в. в среде германских аналитиков, действующих в рамках исследовательского проекта Ostforschung («Изучение Востока»), она обрела доктринальное оформление, сформулированное как Drang nach Osten («Натиск на Восток»). Центром Ostforschung в 1913 г. стало Немецкое общество по изучению России. В своей работе оно руководствовалось известной установкой Отто Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом сотни раз, но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят себя сами».
В сущности, данное направление, именуемое среди некоторых историков «вторым типом войны», с точки зрения политической науки следует понимать как обычный пример «мягкой силы». Ее успех, подобно успеху всякой политической деятельности, во многом зависит от правильного использования качественного и количественного потенциала ресурсной базы. В политической борьбе, идущей за мировое господство, она продолжает применяться до полной победы одной из сторон. В результате утверждается новый тип управления, который Р. Франк и Ф. Кук назвали «обществом, где победитель получает все». Стремление «получить все» заставило национал-фашистов вернуться к проекту Ostforschung и снова разыграть «православную карту» с таким расчетом, чтобы Россия, согласно заявлению А. Гитлера, «больше никогда не могла подняться».
Учитывая это обстоятельство, Сталин в начале Второй мировой войны решительно повернул в сторону правого спектра в церковной политике, что было весьма актуально после вхождения в СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Молдавии и Прибалтики. Почти все приходы и монастыри здесь были сохранены. К 1941 г. они составили 90% всех приходов по стране, что резко усилило позиции западнорусского епископата. Исправить сложившийся перекос можно было путем увеличения числа иереев со стороны «титульной нации». Их стали возвращать из мест заключения, открывать церкви и передавать униатские храмы в юрисдикцию духовной власти Москвы. Союз воинствующих безбожников был распущен, и закрыты его печатные органы. Вернулась идея советского патриотизма как ответ «неоправданному преклонению перед заграничной культурой», заставляющей нас «считать себя на положении вечных учеников» [Симонов 1989: 124, 127]. Жесткой критике за свое «русофобство» подвергся Ф. Энгельс, а новый учебник по истории СССР не только стал ориентировать на «преемственность старой государственности в единстве с социализмом», но и взял под защиту принятие на Руси православия как положительное явление. Это укрепило цивилизационно-культурную спайку верующих и атеистов перед Великой Отечественной войной.
Ее начало пришлось на День всех святых, в земле Российской просиявших. Но она скоро показала, что созданная нацистами база подготовки православных кадров для оккупированных земель не может решать поставленные задачи по установлению доверительного к себе отношения и возбуждению ненависти к большевикам. Реализация Generalplan Ost (генеральный план «Ост»), ставшего результатом аналитического проекта Ostforschung, раскрыла лживый характер церковной политики Третьего рейха. С одной стороны, Берлин поощрял создание церковных приходов. Только в оккупированных районах Ленинградской обл. их было открыто около 40, и 26 – в Киеве. С другой стороны, Generalsiedlungsplan (генеральный план колонизации) как тематический раздел Generalplan Ost, требовал истребить и выселить почти все прибалтийское и славянское население. Оставшиеся должны стать бесправным служебным персоналом новых господ. Открытым храмам материальное обеспечение не полагалось, но в них обязаны были петь «долгие лета» Гитлеру и молиться за победу нацистов. К этому надо добавить практику разделения православной церкви, отвечающую директиве Гитлера, пожелавшего, чтобы «политика на широких просторах заключалась в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола». И «если некоторые… захотят практиковать черную магию, как делают негры, …мы не должны ничего делать». Следствием этого стало появление на Украине сразу двух церквей схизматического толка. Одна объявила себя автокефальной, другая – автономной. Схожую схему применили в Белоруссии и Прибалтике, везде доводя дело до вооруженных столкновений между верующими.
Сталинский курс в данном вопросе вооружился русским имперским стилем, ориентированным на централизацию и унификацию Церкви, помогая ей с первых лет войны. Например, в осажденный Ленинград с боеприпасами и провиантом машины везли муку и вино для служебных треб всех 5 храмов, действующих в то время в городе. В мае 1943 г. был распущен ІІІ Интернационал, сохранивший воинственный настрой по отношению к православию, а в августе руководство страны поставило вопрос о возвращении Церкви ее старой системы управления, ликвидированной «левыми» коммунистами. К этому времени обозначился окончательный перелом в войне, и в Кремле задумались о расширении влияния СССР на православные государства. Осуществить эту задачу при том состоянии, в котором продолжала пребывать Церковь, было нельзя. Поэтому 4 сентября 1943 г. вышло разрешение на организацию духовной академии и открытие семинарий во всех епархиях. Вместо журнала «Безбожник» возродилось издание Журнала Московской патриархии с тиражом в 15 000 экз. Более того, Сталин отметил, что «Церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организацией, укреплением и развитием».
Через 4 дня состоялся Архиерейский собор, не собиравшийся с 1918 г. Он избрал нового патриарха и возродил Синод, положив конец обновленческой церкви, созданной Троцким в 1922 г. с целью дискредитации православия. Весьма показательным в данном плане был Поместный собор, открывшийся накануне Ялтинской конференции – 31 января 1945 г. В его деятельности в соответствии со старой самодержавно-соборной традицией приняли участие духовные и светские лица, включая почти всех глав православных церквей или их представителей. Символом возврата к самодержавной соборности, которую Сталин решил вписать в рамки социалистического государства, стало избрание патриарха Алексия І. В планах генсека этот человек не был случайным лицом. Большое влияние на него оказали идеи М.Н. Каткова, боровшегося с «интернациональным обществом», губящим «самодержавие в России». Алексий как «строгий консерватор... мыслил Церковь как нечто неподвижное… Консервативная Церковь в консервативном государстве – такова новая формула, пришедшая на смену старой формуле церковных либералов: “свободная церковь в свободном государстве”». И если Сталин видел в Иване Грозном образцового правителя и с уважением относился к его эпохе, то Алексий был просто «влюблен в благочестие XVІ в.», когда оформилась доктрина самодержавной соборности. Благоговея перед ней, патриарх требовал «хранить прошлое вопреки настоящему». В этом, считал он, «наша сила, в этом наша правда». Под стать Алексию оказался его епископат, состоявший «из людей, побывавших в заключении за фанатическую пропаганду религии» и державшихся «старых монархических тенденций» [Шкаровский 1995: 151, 154].
Тяготение духовной власти к национально-религиозным традициям, получив поддержку Кремля, нашло отражение в решениях Собора. Новое Положение отменяло прежнее название отечественной православной церкви, и вместо термина «Российская» было введено ее этническое название – «Русская». Итог деятельности Собора подвел митрополит Алеутский и Североамериканский Вениамин (Федченков), побывавший на нем. Он писал: «напрашивалась мысль: не перенес ли… Иисус Христос центр в Москву? Не суждено ли первопрестольной исполнить давнее пророчество инока Филофея: “Москва – третий Рим”?» Мнение митрополита разделили монархисты, осевшие в Европе. В действиях Сталина они увидели возрождение прежней государственности: «России сейчас возвращается все, что мы утратили во времена революции. ‹…› Политика ведется национальная, отвечающая интересам России» [Евлогий 1994]. Завершение Великой Отечественной войны помогло Сталину довести до конца начатую им церковную политику: объединить вокруг Третьего Рима почти всю славяно-православную цивилизацию и остановить амбиции левых экстремистов из либерального лагеря, внедряющих свой «мировой порядок», отношение которого к православной церкви напоминает о Третьем рейхе. Но это тема уже следующей статьи.
Список литературы Война и церковная политика (1939-1945 гг.)
- Асонов Н.В. 2017. Успешная контрреволюция 1917 года. - Власть. Т. 25. № 10. С. 170-174
- Ленин В.И. 1987. Детская болезнь "левизны" в коммунизме. - Избранные сочинения. В 10 т. М.: Политиздат. Т. 9. 695 с
- Митрополит Евлогий (Георгиевский). 1994. Путь моей жизни: Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной - М.: Издательский отдел Всецерковного православного движения. 621 с
- Симонов К.М. 1989. Глазами человека моего поколения: Размышления о И.В. Сталине. М.: Книга. 187 с
- Шкаровский М.В. 1995. Русская православная церковь и Советское государство в 1943-1964 годах. СПб: ДЕАН. 215 с