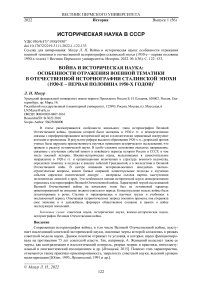Война и историческая наука: особенности отражения военной тематики в отечественной историографии сталинской эпохи (1930-е - первая половина 1950-х годов)
Автор: Мазур Л.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая наука в СССР
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности начального этапа историографии Великой Отечественной войны, традиции которой были заложены в 1930-е гг. и непосредственно связаны с переформатированием исторической науки в идеологически заряженный инструмент агитации и пропаганды. В результате реформ высшего образования 1920-х гг., репрессий против ученых была нарушена преемственность научных принципов исторического исследования, что привело к расколу исторической науки. В особо сложном положении оказалось направление, связанное с изучением событий нового и новейшего периода истории России и СССР, в том числе военной истории. Военно-историческая наука, выделившаяся в самостоятельное направление в 1920-е гг. и организационно включенная в структуру военного ведомства, определяла тематику и подходы к анализу событий Гражданской, а в последствии и Великой Отечественной войн. В центре внимания историков-военных находились тактико-стратегические вопросы, анализ боевых операций, концептуальные подходы к изучению события определял политический дискурс - материалы съездов партии, выступления политических деятелей и проч. Эти особенности военно-исторической науки непосредственно отразились в историографии Великой Отечественной войны. Характерной чертой исследований Великой Отечественной войны на начальном этапе был их летописный характер, ориентированный на описание подвига советского народа. Концептуальная модель войны была детализирована в речах Сталина и тиражировалась в научных трудах и учебниках в послевоенный период. Отвечавшая патриотическому запросу военного времени, она сохраняла свое значение и в дальнейшем, формируя общественное сознание и память о войне последующих поколений.
Советская наука, историческая наука, военно-историческая наука, историография, великая отечественная война
Короткий адрес: https://sciup.org/147246400
IDR: 147246400 | УДК: 930:9(47)”1930/1950” | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-122-133
Текст научной статьи Война и историческая наука: особенности отражения военной тематики в отечественной историографии сталинской эпохи (1930-е - первая половина 1950-х годов)
Современная историография войны, в том числе Великой Отечественной войны, выступает наследницей советской исторической науки, основные черты которой сложились в рамках советской модели науки. Данное понятие отражает те условия, в которых наука функционировала на протяжении 75 лет советской власти. Так, например, А. Ясницкий выделяет такие ее черты, как централизация и идеологический контроль, разрыв теории и практики, интеллектуальный и лингвистический изоляционизм и др. [ Ясницкий , 2015]. Помимо этих характеристик, отмечаются также практико-ориентированность, закрытость советской науки, высокий уровень милитаризации [ Юдин , 1993; Ярошевский , 1991 и др.].
Милитаризация науки коснулась в первую очередь тех отраслей, которые были непосредственно связаны с созданием оружия и/или оборонных систем. Но в итоге затронула не только технические науки, общественные и гуманитарные дисциплины оказались также втянутыми в эти процессы. В частности, в структуре исторического знания оформилась в качестве самостоятельного направления военная история (военно-историческая наука), характерными чертами которой стали ведомственность, корпоративность, двойная цензура (политическая и военная) и партийный контроль. И это неудивительно, поскольку история войн, особенно победоносных, играет важнейшую роль в патриотическом воспитании, формировании исторической памяти и национальной идентичности.
Данная статья посвящена вопросам развития советской военно-исторической науки в сталинскую эпоху (в 1930-е – первой половине 1950-х гг.), когда формировалась матрица исто-риописания, непосредственно повлиявшая на особенности историографии Великой Отечественной войны.
Следует отметить, что историографический аспект изучения Великой Отечественной войны имеет не менее значимую исследовательскую традицию, чем собственно военноисторическая тематика, насчитывая сотни монографий, статей и диссертаций [О разработке…, 1955; Великая Отечественная война, 1995; Великая Победа…, 1985 и др.]. Оценка разными поколениями авторов начального этапа историографии Великой Отечественной войны отличается единодушием, за исключением, пожалуй, хронологических рамок. Они то сужались и включали только военные годы, то раздвигались, охватывая события предвоенной и послевоенной поры, вплоть до XX Съезда КПСС (1956 г.) [ Минц , Реброва , 2005]. Вместе с тем рассматриваемый этап неоднороден и нуждается в более детальном исследовании, учитывая его роль в формировании научных и публичных представлений о войне: ее характере, причинах, этапах и источниках победы.
Исследование опирается на комплексное использование качественных и количественных методов анализа военно-исторической литературы 1930-х–середины 1950-х гг., размещенной на сайте «Милитера. Военная литература» (URL: . Тематический контент-анализ публикаций дает представление об их динамике и видовом разнообразии, позволяет судить о месте и роли исторической науки в информационном пространстве сталинской эпохи.
Начальный этап историографии Великой Отечественной войны (1941–1956) был достаточно плодотворным по количеству публикаций научного и околонаучного плана. Точную цифру назвать затруднительно, но их порядок позволяет оценить сайт «Милитера. Военная литература», где выложено 225 публикаций времен войны (1941–1945) и еще 326 изданий, вышедших в послевоенное десятилетие. Среди них научная литература составила 45,5 %: это книги по военной истории (14,9 %), военной науке (9,1 %), биографиям героев войны и полководцев (7,2 %), историко-военной тематике (14,3 %). Помимо этого, активно публиковались сборники документов (11,3 %), справочники и нормативные документы (5,3 %), мемуары, дневники и письма (11,1 %), художественная литература (19,6 %), учебники (7,2 %), т.е. издания, которые относятся к категории исторических источников. Они формировали информационное пространство для исторических и военно-исторических исследований военного и послевоенного времени в условиях недоступности архивных документов. В этом смысле опубликованные в годы войны источники также носили историографический характер, определяя подходы к историческому нарративу.
Историческая наука в советской системе научного знания
Историческая наука пережила в 1920-е гг. сложное время, практически исчезнув в результате организационных перестроек системы высшего образования и Академии наук, репрессий и гонений, и возродилась к середине 1930-х гг. в новом качестве идеологической науки, мобилизованной для реализации задач патриотического воспитания и пропаганды. Как отмечает А. М. Дубровский, «1920-е гг. стали временем тяжелых испытаний для кадров исторической науки, суровейшей школой выживания. Именно в это время были созданы психологические основы для подчинения ученых власти, началось их приспособление к новым условиям» [ Дубровский , 2005, с. 115].
До революции историческая наука развивалась преимущественно в рамках университетов. Видимо, поэтому исторические факультеты университетов в первую очередь подверглись коренной реорганизации: в 1919–1921 гг. они были преобразованы в факультеты общественных наук. Историческая наука была фактически вытеснена в Академию наук, положение которой до 1925 г. оставалось весьма неопределенным. В результате подготовка профессиональных историков была приостановлена вплоть до начала 1930-х гг. Причины такого решения власти очевидны: помимо недоверия к буржуазной исторической науке, была потребность пересмотра и переоценки в свете марксистской теории основных событий российской истории, т.е. стояла проблема содержания обучения. В любом случае история была подменена обществознанием. Задачу подготовки историков-марксистов взяли на себя Институт красной профессуры и Коммунистическая академия.
Только в 1934 г. было принято решение о восстановлении в университетах исторических факультетов, которые формировали пространство университетской исторической науки. В 1936 г. был восстановлен Институт истории в составе шести секторов (истории СССР, всемирной истории, древнего мира, средних веков, новой истории, вспомогательных исторических дисциплин), который силами старой и новой (красной) профессуры должен был создавать обобщающие труды.
Разрыв преемственности исторического образования в известной степени подготовил методологический раскол исторической науки, обусловленный идеологической компонентой. Незримая, но вполне ощутимая демаркационная линия разделила древнюю/средневековую и но-вую/новейшую историю, особенно глубоко затронув историю советского периода.
Характерной чертой новой советской исторической науки стала опора на эталонные тексты, определявшие не только подходы к изучению определенных исторических сюжетов, но и их интерпретацию. Речь идет о трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, в которых была дана классовая оценка общественно-политических и экономических явлений XIX – начала XX вв. Цитатничество порождало некритическое отношение к официальным документам, в том числе к статистическим справочникам, газетным публикациям, не говоря уже о партийных или правительственных постановлениях. Утверждается и «перевернутая» логика исторического исследования, которая опиралась не на комплексный и непредвзятый анализ фактов, а на экспертное мнение теоретиков марксизма и политиков; в этой логике задачи исторической науки были сведены к доказательству гениальных предвидений вождей.
Становление и организационное оформление советской военно-исторической науки
Раскол советской исторической науки проявился не только по линии древняя / новейшая история, но и в тематике исследований. Он был связан с выделением в особое направление истории ВКП (б) / КПСС, которое занимало лидирующие позиции в официальном рейтинге «научных» исторических дисциплин, а также военной истории. Тема войны, ранее логично вписанная в историописание как традиционный сюжет политической истории, приобретает самостоятельное значение и становится привилегией историков-военных.
Начальный этап оформления военной истории в самостоятельную научную дисциплину относится к концу XIX в., когда в Российской империи впервые появились Военноисторические комиссии (ВИК). Они создавались при Главных штабах для изучения опыта ведения войн и составления их официальной истории. Первая ВИК была образована в 1879 г. для описания событий русско-турецкой войны и работала до 1911 г., издав 14 книг по русско-турецкой войне. Описание войн составлялось с целью анализа военных действий и рассматривалось как часть военной науки и искусства, не претендуя на создание метанарратива войны.
С установлением советской власти эта практика получила продолжение: 13 августа 1918 г. была сформирована Военно-историческая комиссия по изучению войны 1914–1918 гг. Она работала при Военно-исторической части оперативного управления Всероссийского главного штаба. В 1921 г. комиссия продолжила свою работу в составе Высшего военноредакционного совета (создан 4 ноября 1921 г.), а с 1923 г. числилась при Революционном военном совете СССР как Военно-историческая комиссия. 15 апреля 1924 г. она была реорганизована в военно-исторический отдел Штаба Рабоче-крестьянской Красной армии (см. [ Кольтю-ков , 2006]).
Вторым центром изучения новейшей военной истории стала Военная академия им. М. Фрунзе, созданная в 1918 г. Знание военной истории рассматривалось в качестве важнейшего условия подготовки командира Красной армии. Лекции читали В. Ф. Новицкий, А. А. Незнамов, К. И. Величко, А. А. Свечин, А. Е. Снесарев и др. Имея военное образование, полученное в большинстве случаев в Николаевской академии Генерального штаба, они были носителями дореволюционной военной культуры, что не могло не привести к конфликту с молодым поколением преподавателей, которые высказывались за пересмотр содержания курсов по истории военного искусства с учетом классового понимания феномена войны, а также практических потребностей военного времени.
Особо остро стоял вопрос о необходимости и возможности изучения текущего опыта Гражданской войны: А. А. Свечин считал, что реализовать научный подход к ее изучению пока невозможно. Молодежь, напротив, настаивала на необходимости сосредоточить внимание и исследовательский потенциал именно на истории Гражданской войны. В результате в академии была создана кафедра истории Гражданской войны, которая взяла на себя разработку теоретических и методических аспектов ее изучения, стала организационным центром «новой» военной истории, ориентированной на максимальное приближение научных исследований к военной практике.
В 1920 г. при академии было образовано Военно-научное общество, одной из задач которого было изучение так называемых классовых войн, в частности истории Гражданской войны. Основным методом работы был провозглашен классовый подход, в особенности по отношению к социологической и политической стороне военных событий [Военная академия…, 1923, с. 189].
В 1930-е гг. военно-историческая мысль была нацелена на изучение опыта Гражданской и Первой мировой войн, а также Отечественной войны 1812 г. [Октябрьская революция…, 1933; Караев , 1940 и др.], который мог быть полезен в войне грядущей. Помимо сугубо военной тематики, сосредоточенной на тактико-стратегических вопросах, публиковались труды по оккупации, организации тыла и транспорта в условиях войны, опиравшиеся преимущественно на анализ Первой мировой войны [ Зимионко , 1932; Маниковский , 1937 и др.]. Был издан ряд работ, развивающих идеи империалистической войны, в том числе изучающих ее влияние на формирование революционной ситуации в воюющих государствах [ Покровский , 1934 и др.].
В целом, в 1930-е гг. военная история оформилась как самостоятельное направление военной науки, что обусловило такие ее черты, как ведомственность, корпоративность и закрытость, ограничивающие ее контакты с исторической наукой. Военно-исторические исследования опирались на свой понятийный аппарат и методы, ориентированные на анализ стратегических и тактических аспектов военных операций. Особый научный вес имели свидетельства участников событий, породив жанр «полувоспоминаний», дополненных текстами документов. Концептуальную оценку военных событий определяли материалы съездов партии, выступления политических деятелей и проч. Данный подход, не имея альтернативных версий, приобретал свойства матрицы, определяя оптику восприятия военных конфликтов, оценку которым давали политики.
Эти особенности военно-исторической науки непосредственно отразились в историографии Великой Отечественной войны: в большей степени на начальном этапе ее становления (1941–1956), в меньшей – в более поздней историографической традиции.
Историография Великой Отечественной войны (1941–1956 годы)
В границах начального этапа историографии войны можно выделить три подэтапа: «летописный» (1941–1945), «перезагрузку» (1946–1950) и мифотворческий (1951–1956), отличавшихся характером историко-научных практик и целеполаганием.
С началом Великой Отечественной войны вся страна, в том числе представители исторической, а тем более военно-исторической науки, были мобилизованы на защиту Родины. Многие историки ушли на фронт, другие стремились способствовать победе доступными им средствами. В 1941 г. вышла в свет монография М. Н. Тихомирова, посвященная сопротивлению русского народа в XII–XV вв. немецким нашествиям [ Тихомиров , 1941]. Несколько книг выпустил Е. В. Тарле, среди них монографию о Крымской войне [ Тарле , 1941; Тарле , 1941–1945].
Проблемы международных отношений накануне войны нашли отражение в монографии Ф. И. Нотовича [ Нотович , 1943].
Война во многом меняла задачи и характер исторической науки, объективно способствуя ее депрофессионализации. История становилась оружием пропаганды и агитации: на основе примеров прошлого она была призвана укреплять веру в победу. Эта цель достигалась, во-первых, подготовкой многочисленных научно-популярных трудов на военно-историческую и историко-биографическую тему; во-вторых, созданием летописи Великой Отечественной войны, фиксирующей героические события всенародной освободительной войны. Основное внимание уделялось нескольким сюжетам – подвигу советских воинов, противоречивой позиции союзников, зверствам фашизма.
В ноябре 1941 г. в Москве была создана Комиссия Академии наук СССР по составлению хроники войны. Аналогичные комиссии для сбора материалов по истории войны были образованы в республиках/краях и областях, а также при наркоматах. В 1943 г. в Институте истории СССР был организован военно-исторический сектор.
Переход исторической науки в режим летописания способствовал, с одной стороны, расширению круга авторов, в число которых, помимо историков и военных, вошли журналисты, писатели, очевидцы (свидетели), а с другой – накладывали свой отпечаток на характер изложения событий. Для публикаций о войне того времени был характерен особый литературноэмоциональный стиль подачи информации, дополненный фотографиями, выдержками из текстов документов, т.е. историческими свидетельствами, и обращенный в равной степени к сердцам и умам людей. Пафосный стиль в известной степени был отражением патриотических настроений, которые переживала страна.
Основным жанром научной публикации стала научно-популярная брошюра объемом 20–60 страниц – наиболее удобный формат для ведения агитационной работы. Примером такой публикации может служить очерк И. Голубева о зверствах фашистов в Польше [ Голубев , 1941]. В 1942 г. начала издаваться научно-популярная серия, посвященная великим русским полководцам: Александру Невскому, Дмитрию Донскому и др. В 1943–1945 гг. вышла серия книг о выдающихся битвах Красной армии и городах-героях: «Битва за Москву», «Героический Ленинград», «О героическом Сталинграде», «Битва под Курском» и др. (см. [Битва под Курском, 1945; Великая победа…, 1945]). Все они, опираясь на документы и свидетельства очевидцев, формировали убедительный образ Великой Отечественной войны как войны справедливой, освободительной, направленной против зверств фашизма, несущего угрозы всему миру.
Единство настроений и взглядов авторов этого времени в общем понятно, поскольку первым и главным историком Великой Отечественной войны был И. Сталин. В своих речах и приказах, приуроченных обычно к праздничным датам (7 ноября, 23 февраля, 1 мая), он давал чеканную, логически убедительную оценку хода и характера войны, комментарии к основным битвам, анализ причин побед и поражений, ситуации на фронтах, приводил данные о потерях противника и Красной (Советской) армии. Эти тексты публиковались массовыми тиражами в виде брошюр под названием «Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза» и служили руководством к действию не только для комиссаров и партийных работников, пропагандистов и агитаторов, но и для ученых-историков. Всего было опубликовано несколько изданий, каждое из которых отличалось объемом и начиналось с обращения Сталина к советскому народу, которое прозвучало по радио 3 июля 1941 г. В брошюру были включены также поздравительные приказы и интервью с зарубежными корреспондентами. Ее объем от издания к изданию менялся: пятое издание содержало тексты приказов и речей И. Сталина за все годы войны [ Сталин , 1947].
В речах главы советского государства была сформулирована официальная концепция Великой Отечественной войны. Она включала оценки характера войны (освободительная, справедливая), цели – освобождение порабощенных народов Европы и СССР от фашизма, виновников. Ответственность за развязывание войны разделяли страны фашистского блока, прежде всего Германия и Япония. Периодизация войны включала несколько этапов: 1941–1942 гг. – активная оборона; 1942–1943 гг. – коренной перелом; 1944 г. – год решающих побед; 1945 г. – завершение войны. Она была основана на стратегических решениях Ставки. Для первого этапа была заявлена стратегия активной обороны с последующим контрнаступлением Красной ар- мии, что оправдывало отступление и поражения в начале войны. Истоки победы непосредственно увязывались с преимуществами социализма.
Собственно, в русле этой концепции и развивалась военно-историческая наука в годы войны и в первое послевоенное десятилетие, концентрируя свое внимание на описании отдельных операций, действий фронтов, особенностей тактики родов войск, т.е. сугубо военной проблематике, и не претендуя на теоретические обобщения, поскольку все уже было сказано вождем (см. [Танки…, 1944; Московский , 1944 и др.]).
В 1941–1945 гг., наряду с военно-историческими трудами, издавались мемуары, дневники, сборники документов, различные учебники, справочники, памятки и инструкции [ Лизюков , 1942; Смерть немецким оккупантам, 1943 и др.]. Заметная роль в патриотическом воспитании отводилась литературным произведениям. Всего в годы войны удельный вес военноисторической и историко-патриотической литературы в общем потоке изданий составил 26,3 %, литературных произведений – 21,3 %, мемуаров и дневников – 9,3 %, изданий, посвященных военной науке и технике, – 10,7 % (см. приложение).
Таким образом, в годы войны оформились два основные направления историографии Великой Отечественной войны – историко-героическое и военно-тактическое. Основанные на принципах летописания 2 , они и в дальнейшем определяли общую историографическую ситуацию, подходы к созданию метанарратива войны и тематику исследований.
В первые послевоенные годы (1946–1950) наблюдается общее сокращение числа и разнообразия видов изданий по истории Великой Отечественной войны. В условиях развертывания холодной войны, роста репрессий внутри страны происходит «перезагрузка» исторической и военно-исторической науки. На фоне сокращения «летописной» продукции – мемуаров, воспоминаний, сборников документов – сохраняется активность публикаций по исторической и военно-исторической тематике, но посвященной не Великой Отечественной войне, а другим военным кампаниям [ Тельпуховский , 1946; Из боевого прошлого…, 1947; Боевая летопись…, 1948 и др.].
Что касается изданий по истории прошедшей войны, то здесь преобладало «мелкотемье»: военные историки публикуют труды в жанре «эпизодов» [Сто сталинских соколов…, 1947], а гражданские – борются с фальсификациями и пропагандируют сталинскую концепцию войны. В этом отношении показательна брошюра И. Минца, популяризирующая сталинские высказывания о войне, и брошюра «Фальсификаторы истории» – ответ на публикацию на Западе документов по заключению секретного соглашения между Молотовым и Риббентропом [ Минц , 1947; Фальсификаторы…, 1948]. Эти документы стали доступны советским историкам только в годы «перестройки». Всего в 1946–1950 гг. при общем сокращении числа публикаций почти в два раза удельный вес исторических и военно-исторических изданий вырос и составил 40,5 %, мемуарной литературы –16,4 %, сборников документов и справочников – 19,0 %, изданий по военной науке и технике – 11,2 %. С другой стороны, удельный вес литературных произведений о войне сократился до 8,6 %, т.е. в 2,5 раза.
В первой половине 1950-х гг. происходит окончательное оформление исторического (героического) мифа Великой Отечественной войны – безальтернативной сталинской версии ее истории. Вновь растет число публикаций военных историков, посвященных обобщению опыта военных действий, истории родов войск, отдельных дивизий (см., напр., [ Минасян , 1952; Ступов , Кокунов , 1953 и др.]). Гражданские историки, развивая идеи Сталина, занимались увековечением героического подвига советского народа, разоблачением предателей, изучением международных отношений накануне войны в контексте проблемы виновности европейских стран в развязывании Второй мировой войны (см., напр., [ Некрич , 1955; Голиков , 1954 и др.]). В 1951–1955 гг. вновь меняется видовая структура публикаций о войне: 47,1 % составили военно-исторические и исторические издания; до 12,2 % сокращается доля мемуаров и дневников; и в абсолютном, и в относительном выражении растет количество литературных произведений (22,6 %).
Начало нового этапа в изучении Великой Отечественной войны связано с решениями XX Съезда КПСС. Открыв эпоху «оттепели», съезд способствовал переходу к научному изучению войны, в том числе пересмотру масштабов потерь СССР. Но самое главное – благодаря оттепели были открыты архивы, что позволило не только военным, но и «гражданским» исто- рикам получить доступ к документам, выйти из режима летописания и включиться в процесс создания научной истории Великой Отечественной войны.
В первой половине 1960-х гг. была опубликована шеститомная история Великой Отечественной войны [История…, 1960–1965], которая с некоторыми отклонениями воспроизводила версию войны, предложенную И. Сталиным. Но появляются и альтернативные варианты: в 1965 г. выходит в свет монография А. М. Некрича о первых днях войны и причинах поражений Красной армии, за которую он был исключен из партии и обвинен в фальсификации. Это, пожалуй, была первая попытка разрушить героический военный миф. А. М. Некрич писал по этому поводу: «О причинах, приведших к поражениям начального периода войны, нельзя говорить скороговоркой, ибо такой подход наносит ущерб исторической правде… Есть только одна правда» [ Некрич , 1965, с. 4].
Выводы
Начальный этап историографии Великой Отечественной войны (1941–1956) был непосредственно связан с формированием и обоснованием героического мифа войны, в основе которого лежали оценки И. Сталина. Первоначально изучение войны опиралось на механизмы летописания со всеми вытекающими из этого понятия последствиями и особенностями исторических текстов. Это была попытка непосредственного и эмоционального отражения событий войны с опорой не столько на документы, сколько на свидетельства очевидцев и мнение И. Сталина. В этом смысле характер отображения военной реальности, конечно же, определялся задачами пропаганды, но в еще большей степени соответствовал оптике того времени и настроениям общества, находящегося в состоянии войны.
Время строгого научного анализа еще не наступило. Не наступило оно и в послевоенный период, поскольку общественно-политические условия позднесталинского общества не позволяли перейти к объективным оценкам войны. Отрицательную роль сыграло ограничение доступа историков в архивы, хранившие документы о войне.
В результате сталинская концепция войны, растиражированная в научных трудах, вузовских и школьных учебниках, стала выполнять функции матрицы исторической памяти нескольких поколений и вплоть до настоящего времени сохраняет свои позиции, соответствуя патриотическим приоритетам политики памяти. Воспроизводится она и в современных летописных практиках изучения войны: школьных исследовательских проектах и инициативах по сбору воспоминаний участников войны и пр.
Список литературы Война и историческая наука: особенности отражения военной тематики в отечественной историографии сталинской эпохи (1930-е - первая половина 1950-х годов)
- Битва под Курском. Краткий очерк. Из опыта боев Отечественной войны. М.: Воениздат, 1945. 96 с.
- Боевая летопись русского флота: хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. М.: Воениздат МВС СССР, 1948. 492 с.
- Великая Отечественная война (историография): сб. обзоров. М.: ИНИОН, 1995. 197 с.
- Великая Победа. К сорокалетию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Советская историография): в 2 ч. М.: ИНИОН АН СССР, 1985. 250+208 с.
- Великая победа советских войск под Ленинградом: сборник / под ред. полк. В.А. Калмыкова. Л.: Воениздат, 1945. 232 с.