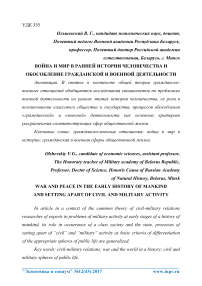Война и мир в ранней истории человечества и обособление гражданской и военной деятельности
Автор: Ольшевский В.Г.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 12 (43), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье в контексте общей теории гражданско-военных отношений обобщаются исследования специалистов по проблемам военной деятельности на ранних этапах истории человечества, ее роли в возникновении классового общества и государства, процессов обособления «гражданской» и «военной» деятельности как основных критериев разграничения соответствующих сфер общественной жизни.
Гражданско-военные отношения, война и мир в истории, гражданская и военная сферы общественной жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/140235499
IDR: 140235499
Текст научной статьи Война и мир в ранней истории человечества и обособление гражданской и военной деятельности
Усложнение международной обстановки, беспрецедентное для мирного времени давление, оказываемое западными странами, на Россию актуализирует теоретические и практические проблемы гражданско-военных отношений, понимаемых как взаимосвязи и взаимодействия трех сложно структурированных субъектов: государства, военной сферы и не отождествляемой с гражданским обществом гражданской сферы [см.: 12]. Фундаментальное значение для исследования гражданско-военных отношений имеет анализ понятий, структуры, а также становления, развития и диалектики гражданской и военной сфер общественной жизни, в связи с этим - роли военного фактора, диалектики войны и мира в истории человечества. Самого пристального внимания заслуживает изучение истории возникновения и эволюции войн, поскольку оно позволяет, во-первых, проследить процесс обособления и взаимодействия гражданской и военной деятельности и, во-вторых, уточнить важные для понимания современных гражданско-военных отношений понятия гражданской и военной сфер. Кроме того, гражданско-военные отношения во многом определяются не только соотношением войны и мира в определенных исторических условиях, но и характером возможных войн. Наконец, существует настоятельная необходимость аналитической проверки распространенного среди многих философов и политологов убеждения, что поскольку войны являются феноменом политики, то до возникновения государств и обособления политической сферы «ни мира, ни войны в собственном смысле этих слов не было».
Следует оговориться, что процесс обособления гражданской и военной сфер в результате исторической эволюции войн еще не был предметом самостоятельного научного анализа, за исключением общих работ по военной истории и некоторых единичных статей литературы по этой проблеме нет. Решение такой задачи потребовало бы воспроизведения, фактически, всей истории человечества. Поэтому здесь будут обозначены лишь общие контуры необходимых исследований.
И в прошлом и в современных условиях классической считается трактовка войн немецкого военного теоретика и историка, генерал-майора прусской армии, служившего во время войны с наполеоновской Францией и России, К. Клаузевица (1780–1831). «Война есть не только политический акт, – писал он, – но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, осуществление их другими средствами»; «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю» [6, с. 38, 20].
В традиционном марксистском понимании войны считались порождением антагонистических формаций, их условиями – возникновение частной собственности, разделение общества на классы и образование государств. Логическим продолжением подобных умопостроений были выводы о ликвидации частной собственности, порождаемых ею различных форм экономической обособленности людей, товарного производства, рынка, классов и государства как конкретных способов избавления человечества от войн. При этом утверждалось, что имевшие место на «догосударственных» этапах развития человеческого общества вооруженные столкновения не могут считаться войнами, поскольку они не имели политических последствий, не приводили к установлению власти одних групп людей над другими. Ссылались и на то, что в древних обществах собирателей и охотников, а также в земледельческих сообществах более позднего времени не было профессиональных воинов, в вооруженных конфликтах участвовали все взрослые мужчины племен и других сообществ.
Все перечисленные обстоятельства не препятствуют, тем не менее, серьезному изучению, по существу, военной деятельности, имевшей место в самой ранней истории человечества. Английский философ Т. Гоббс (1588– 1679) еще в 1642 г. писал в своей работе «Элементы права естественного и гражданского»: «Несомненно, что война была естественным состоянием человека, пока не образовалось общество, и притом не просто война, а война всех против всех» [1, с. 113]. Это же выражение Гоббс воспроизвел и в знаменитом «Левиафане» (1651).
По свидетельствам специалистов, многие историки, этнографы, социологи на основе изучения материальной культуры, мифологии, обычаев, верований, образа жизни различных племен подтверждали этот вывод. Они писали о войнах как нормальном состоянии первобытной жизнедеятельности (McLennan, 1886), считали, что существование племени «зависит от отстаивания себя в борьбе не на жизнь, а на смерть с другими племенами» (Тейлор, 1908), полагали, что первобытный человек рассматривал чужаков исключительно, как «лютых врагов» (Мэн, 1876) [16, с. 215; 13, с. 7]. Показательно, что библиографии литературных источников по проблемам войн в примитивных обществах и антропологии войн насчитывают сотни страниц [см.: 19; 20].
В изданном в 1929 г. Йельским университетом фундаментальном труде американского историка и социолога Мориса Дэйви (1893–1964) «Эволюция войн: исследование их роли в ранних обществах» [18], переведенном на русский язык, но, к сожалению, без его основательного научного аппарата
[3], констатировалось: «С ранних времен до настоящего времени человек всегда сражался и всегда использовал оружие, естественное (камни, палки, дубины и т. д.) или созданное специально самим человеком для решения возникающих конфликтов. Среди многих других свидетельств в пользу данного утверждения говорит история, зафиксированная в письменном виде, которая убедительно показывает чрезвычайную степень занятости человека военным делом… Многие авторы воссоздали для нас образ жизни древнего человека. Мифы наполнены описаниями войн и сверхчеловеческих подвигов героев, и именно война представляет собой, согласно мифам, главный интерес в жизни». А далее цитируется известный английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма Герберт Спенсер (18201903): «Главным занятием эпох дикости и варварства являлись войны» [3, с. 7, 9].
Археология делает возможным реконструкцию еще более ранней стадии эволюции общества, чем та, которая характеризуется существованием диких племен, и найти еще более первобытные следы военного дела, - писал далее М. Дэйви. Данные об этом существуют преимущественно в форме остатков материальной культуры… Несмотря на то что первобытные люди почти не оставили свидетельств о том, как именно велись войны в то время, они оставили после себя оружие, что свидетельствует о том, что люди сражались и что они не были слабыми противниками.
Использование оружия было для первобытного человека естественным, так как помимо необходимости добывать пропитание его величайшей заботой была самозащита. Первобытные люди должны были отгонять диких зверей, которые на них нападали, и убивать этих зверей. Но самыми страшными врагами первобытных людей, в свою очередь, были представители их же биологического вида. Таким образом, на этой, самой низкой из известных ступеней развития цивилизации, войны уже начались, и человек сражался с человеком, используя те же самые палицу (дубину), копье и лук, которые он использовал против диких зверей… При этом кажется, что предшественник человека, живший в эпоху плиоцена, начавшейся 5,332 и закончившаяся 2,588 миллионов лет назад, если он хотя бы немного опережал в развитии современных шимпанзе, не должен был испытывать особенных затруднений, когда он пересек своего рода «границу» и превратился собственно в человека, вооружив себя грубыми деревянными дубинками, частично для метания, частично для удара рукой, пиками и копьями, первоначально бамбуковыми, а позднее делавшимися из обожженного на огне дерева... Он также мог использовать метательные камни...
Боевые палицы, вероятно, были одним из самых ранних видов оружия, но по той причине, что делались они из дерева, следов их практически не осталось. Вряд ли сегодня найдется хоть одно дикое племя, которое не использовало или до сих пор не использует дубинки в качестве оружия. Поэтому можно утверждать, что человек времен палеолита - первого исторического периода каменного века с начала использования каменных орудий около 2,5 миллионов лет назад до появления у человека земледелия приблизительно в 10 тысячелетии до н. э. - пользовался похожими орудиями. Они использовались и в вооружении воинов древних цивилизаций, а применение палиц продолжалось и в средневековой Европе, когда рыцари все еще разбивали шлемы (и головы) противников своими булавами.
Неолит, или новый каменный век, продолжавшийся примерно с 7-го тысячелетия до н. э. до 18 в. до н. э., характеризовался значительным развитием в области обработки камня… В этот период был создан и совершенствовался топор из кремня, появились лук и стрелы, и несомненным предвестником их появления были каменные и костяные наконечники. В приозерных поселениях Швейцарии, Северной Италии и других стран находят пики и копья из кремня и кости, наконечники из кости, кремня и других материалов, боевые топоры из серпентина, кремневые топоры и ножи - все созданные с применением техники неолита.
Первобытному человеку было известно, что такое война, и этот факт подтверждается также его выбором селиться общинами - из-за возможности защиты, которую предоставляли такие общины, а также укреплениями, которые он возводил. Во времена неолита деревенские поселения, взаимодействовавшие друг с другом, были более или менее тесно раскинуты, как сеть, по всей Европе и, возможно, по всей Африке, а укрепления, возведенные на воде и на земле, свидетельствуют о небезопасности тогдашней жизни. Лучшим примером подобных поселений могут быть озерные деревни (свайные постройки) в Швейцарии, хотя похожие большие поселения были найдены также в Италии, Германии, Австрии, Франции и во многих других местах. Они были построены главным образом для защиты от врагов и хищных животных, и об их ценности для решения таких задач можно судить по тому, как подобные типы больших поселений распространены у диких племен и в настоящее время.
Так называемый бронзовый век (конец IV – начало I тысячелетия до н. э.) в некоторых местах пришел на смену каменному веку и внес в инструменты войны множество доработок. Человек узнал, что такое металл – это факт, который некоторые ученые считают одним из поворотных моментов в истории. С приходом бронзового оружия наступило время настоящих боевых действий. С открытием бронзы война приняла более современный характер. Можно утверждать, что изобретение бронзовых топоров, кинжалов и мечей изменило историю Европы. Использование железа позволило сделать клинки длиннее и прочнее. Железный меч стал типичным оружием. Поэты античности называли войну порождением железного века, хотя ближе к истине то, что война – это принадлежность всех эпох [3, с. 10-17].
В первобытных или варварских странах (paesi selvaggi o molto barbari), где экономика является весьма примитивной, а войны происходят часто, все взрослые мужчины являются солдатами, – писал выдающийся итальянский экономист, социолог и политолог Гаэтано Моска (1853–1941) в изданной в 1923 г. книге «Элементы политической науки». Примитивные общества, в которых преобладает кочевое скотоводство и в которых земледелие и ремесло находятся в эмбриональном состоянии, никогда не были развиты настолько, чтобы полностью поглотить всю человеческую деятельность, и потому у их членов всегда остается достаточно много времени и энергии для дерзких набегов (scorrerie avventurose), которые являются делом не только увлекательным, но и почти всегда прибыльным. Мирные виды деятельности оставлены женщинам или рабам, а мужчины отдают предпочтение охоте или войне.
Это было и есть характерно для всех рас и всех климатов, если существуют условия, которые мы подчеркнули: так жили древние германцы и еще совсем недавно сохранившиеся современные краснокожие (Pelli Rosse), скифы классической древности, туркмены в современную эпоху и так живут до сих пор часть негров во внутренних районах Африки, а также арийские, семитские и монгольские племена, которые способны сохранять фактическую независимость в недоступных районах Азии.
Удобный показатель устойчивости этого положения вещей – существование маленьких политических организмов, фактическая автономия маленьких племен или крошечных деревень, которые способны вести длительные войны, заниматься грабежом своих соседей и осуществлять репрессии по отношению к ним. Фактически лишь только варварские племена, подчиненные законному правительству, которое препятствует ведению междоусобных войн, через долгое время становятся мирными [9, с. 38-39].
…Едва только экономическое развитие достигло определенных успехов и война перестала быть очень выгодным занятием, тогда мы можем увидеть, что военному ремеслу (mestiere delle armi) стал посвящать себя особый класс, который добывал свое содержание не столько благодаря добыче, взятой у противника, сколько благодаря дани, которую он в разных формах собирал с мирных трудящихся на территории, которую он опекал и охранял. В общем, так как в период средневековой цивилизации и культуры производство является почти исключительно аграрным, воины (guerrieri) или являются собственниками земли, которую должны обрабатывать другие лица, или взимают тяжелые и обременительные поборы с тех, кто трудился на земле. Так было и во время того начального периода классической древности, при котором господствующая военная часть городского населения состояла только из собственников земли, и этот же самый феномен очень часто встречался в феодальных странах…
Однако, когда цивилизация в феодальных государствах прогрессирует, в них непременно возникает тенденция развития централизации и даже бюрократических порядков. Центральная власть постоянно стремилась к тому, чтобы освободиться от необходимости полагаться на добрую волю маленьких политических организмов, которые формируют государство, тогда как эта добрая воля не всегда присутствовала и стремилась к этому. Следовательно, для того, чтобы держать эти маленькие политические организмы в послушании и дисциплине, верховные власти государств стремились использовать средства, с помощью которых можно было эффективно навязать свою волю другим людям – деньги и солдат. Так были созданы наемные части, которые служили под руководством глав государств, и это явление было столь естественно и стабильно, что оно обнаруживается во всех феодальных странах, по крайней мере, в эмбриональном виде.
И действительно на сегодняшний день (1923 г. – В. О.) абиссинский негус (император Эфиопии, называемой в Европе до середины XX в.: Абиссинией – В. О.), располагает, кроме контингента войск, который формируется различными расами, основным отрядом своих вооруженных сил, состоящим из подчиненной ему лично гвардии, которую он содержит за счет реквизиций, поступающих в его казну, а также из числа рабов его дома, включая конюхов и пекарей, которые всегда следуют за императором и в случае необходимости становятся солдатами.
И в Библии упоминается, что основное ядро армии Давида и его наследников было составлено из воинов, которые ели за столом у царя, и из наемных критян и филистимлян; все они были людьми, умеющими обращаться с оружием… Это происходило повсюду там, где социальный агрегат состоял из небольших ядер, которые обладали всеми необходимыми органами для независимой жизни и, следовательно, могли взбунтоваться против центральной власти. Поэтому король Англии, который в средние века оплачивал фламандцев и брабантцев, король Франции, который окружал себя швейцарцами, итальянский государь, который содержал немцев, в сущности, исходили из тех же соображений политической необходимости, которая заставляла царя Иудеи платить филистимлянам и критянам, а позже вынуждала багдадского халифа платить тюркской гвардии.
Только организаторский гений Рима осуществил совершенствование военной организации (l’ordinamento degli eserciti), поначалу набираемой из числа состоятельных граждан господствующего класса, берущих в руки оружие только в случае необходимости, которое сделало возможным осуществить без потрясений и почти неощутимо трансформацию этой организации в настоящую постоянную армию, состоящую из профессиональных солдат [9, с. 38-40].
Как уже было показано в литературе [см., напр.:17, с. 329-358], войны и военная деятельность сыграли большую роль в возникновении государства и дальнейшем развитии человеческого общества. В частности, Г. М. Мушегян вполне справедливо обращает внимание на недооценку этих важнейших факторов в истории и других социально-гуманитарных науках [10]. Когда знакомишься с историей древних (да и новых) государств и цивилизаций (начиная уже с древних Египта и Шумера), – пишет он, – то она предстает перед нами, главным образом, историей малых, средних и грандиозных войн, завоеваний, подчинений и т. д. Однако когда мы читаем истории первобытного общества, реконструируемые современными авторами, в основном, на материале наблюдений за эскимосами, австралийцами, бушменами, индейцами и другими отсталыми народами и племенами, сохранившимися в экстремальных и труднодоступных уголках ойкумены, то их жизнь предстает перед нами как исключительно мирный способ существования, сосредоточенный почти исключительно на хозяйственно-экономической, семейно-бытовой и, отчасти, религиозной деятельности [5; 15]. Ни политики, ни войны эти народы (в большинстве своем, в то же время, - охотники-собиратели) не знали и не знают.
Такое поразительное различие в образе жизни исторических (государственных) и неисторических (безгосударственных) народов, естественно, вызывает законный вопрос: является ли такой образ жизни последних причиной того, что у них так и не сложилось государства, или, наоборот, - отсутствие у них государства и является причиной такого их, исключительно мирно-хозяйственного способа существования? Огрубляя и обостряя этот вопрос, можно сформулировать его и так: является ли их невоинственность причиной отсутствия у них государства, или, наоборот, отсутствие у них государства является причиной их мирно -хозяйственной невоинственности ?
Вместе с тем вызывает недоумение и то обстоятельство, что историки, в большинстве своем, даже и не задаются подобным вопросом. Почему? Основных причин этому, по мнению некоторых исследователей, две: во-первых, историки о первобытной истории государственных народов судят либо по аналогии с доступными их наблюдению отсталыми безгосударственными народами, либо по данным археологии, которой и доступны следы, в основном, лишь мирно-хозяйственной деятельности людей той эпохи; а, во-вторых, свою роль здесь играет и укоренившееся в сознании многих современных историков учение исторического материализма К. Маркса, выдвигающее именно мирно-хозяйственную деятельность людей в качестве основной, главной деятельности человека вообще и всего человечества в целом.
Иначе говоря, с одной стороны, наилучшая эмпирическая доступность для изучения именно этой формы деятельности (ее материальных следов) и, с другой, - соответствующая теоретическая установка историков (на то, что это и есть главное в человеческой жизни) и является основной причиной того, что первобытное общество всех народов предстает перед нами как общество исключительно хозяйственно-бытовое, а не политическое и не военное.
«Такую же важность, - писал К. Маркс, - какое строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения общественно-экономических формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда не только мерило развития человеческой производительной силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд» [8, с. 191]. Однако Маркс здесь не обращает внимания на то, что и рабовладельческая и феодальная «формации» пользовались, практически, одними и теми же средствами труда. По одним только их археологическим останкам их невозможно было бы отличить друг от друга.
Здесь можно добавить, что оружие в течение двух этих исторических эпох изменилось весьма существенно. Этого нельзя отрицать. И у современных, в том числе и марксистских, историков можно обнаружить, все же, некоторое внимание и к военно-политической стороне первобытной жизни. «Война, - пишут, в частности, авторы фундаментальной советской «Истории Европы», - вооруженные столкновения, а позже и специальные грабительские походы стали характерной чертой жизни многих регионов Европы в бронзовом веке. Об этом свидетельствуют городища с их укреплениями, а также большое количество оружия, обнаруженное в памятниках уже первой половины II тысячелетия до н. э. Во второй половине этого тысячелетия оружия накапливается еще больше и оно совершенствуется. Война, - подчеркивают авторы, и мы обращаем на это особое внимание, - была важным условием для возвышения вождей в эпоху «военной демократии» (Ф. Энгельс), ведь вождь - это прежде всего военный предводитель. Успешная война, грабительский поход способствовали обогащению вождя и его приближенных - знати и дружины. Племенные объединения имели свои территориальные границы, и вооруженные конфликты из-за территории были, видимо, достаточно частым явлением» [4, с. 118].
Таким образом, у историков есть достаточные основания полагать, что именно война и военно-политическая деятельность, а не само по себе мирное накопление материального богатства (которое, в то же время, могло играть роль сильнейшего стимула к военным действиям и, так сказать, - катализатора войн) и явились первоначальной причиной разделения общества на классы и возникновения государства. Не богатство и богачи, а воины-дружинники с их вождями стали первыми правителями и первым правящим (политическим) классом древнего общества. А все остальное население, занятое лишь хозяйственной деятельностью (независимо от того, бедными или богатыми они были), стало первым подвластным, низшим классом.
Иначе говоря, можно утверждать, что самым первым крупным разделением труда (а война - это труд) было не отделение скотоводства от земледелия или земледелия от ремесленничества, а отделение военного (ратного) труда от труда собственно хозяйственного (земледелие, пастушество, ремесло и т. д.). Именно это первоначальное разделение труда на труд ратный и труд хозяйственный и означало само по себе возникновение государства. Первое государство (государственный аппарат) - это армия, вооруженные силы во главе со своим военачальником, а мирные жители - это первоначальное гражданское, отличающееся от военного сообщество, его низшие классы. И имущественное неравенство в первобытном обществе является, таким образом, не причиной, а следствием первоначального разделения труда на хозяйственный и ратный, причем именно последний, а не первый и создает первых богачей и крупных собственников. Первоначально, следовательно, не богатство поднимает людей в правящий класс, а наоборот, их участие в войне и проявление воинской доблести делает их правящим классом и приносит им богатство.
Война, – утверждал еще Гераклит (конец VI – начало V вв. до н. э.), – всему отец и всему царь – одних она сделала богами, других – людьми; одних она сделала свободными, других – рабами» [2]. С этим положением Гераклита следует согласиться и принять его, практически, дословно и буквально. Первыми государствами (первым «государственным аппаратом») у всех народов были именно воинские дружины во главе со своими вождями. А первыми рабами и вообще низшим классом – те, которые покорены на войне и те, которые благоразумно передоверили ратный труд другим, сосредоточившись на своем хозяйстве.
«В бронзовом веке, – пишут авторы «Истории Европы», – наблюдается дальнейшее усиление социальной дифференциации. Но никаких свидетельств того, что иерархические социальные группы переросли в классы, нет. Нет и государственных образований, за исключением Эгеиды» [4, с. 118]. И совершенно непонятно при этом, что эти авторы понимают под «классами» и «государственными образованиями», поскольку буквально на той же странице у них говорится следующее: «Иерархичность глубоко пронизывала всю социальную структуру общества. Верхние ступени иерархии занимали вожди и знать, ниже шли воины, ремесленники и рядовые члены общин – земледельцы и скотоводы. Определенное место наверху иерархической лестницы занимали жрецы. Часто жрецом был сам вождь, или же он выполнял жреческие функции ... Вождь был окружен родичами, которые занимали высшие ступени иерархической лестницы и образовывали знать ... Лишь в развитых объединениях у вождей имелась особая дружина, которая могла силой проводить в жизнь его решения. О стремлении обособиться от остальных членов общества свидетельствуют акрополи, небольшие по размерам, хорошо укрепленные крепости, которые встречаются на некоторых поселениях в Юго-Восточной Европе уже в V (Сескло), IV (Димини) и III (Юнаците) тысячелетии до н. э., а в Центральной Европе – во II тысячелетии. до н э.» [4, с. 118].
«На наш взляд, – делает вывод Г. М. Мушегян, – только предвзятая узкоэкономическая точка зрения на общество не позволяет этим авторам увидеть, что описываемая ими «иерархия» – это и есть первоначальное разделение общества на классы - высшие и низшие, а занимающие высшие ступени этой иерархии воины-дружинники во главе со своим вождем - это и есть государство. Во всяком случае, в ходе дальнейшего исторического развития общества (после появления именно этого важнейшего разделения и после выстраивания именно такой социальной иерархии) не возникает уже ничего принципиально нового - все уже содержится здесь, в этом зародыше» [10].
Таким образом, государственная сфера в первоначальном ее варианте была военизированной (по существу, военной), была строго иерархичной и жестко дисциплинированной. Понадобилось довольно продолжительное время для того, чтобы в рамках государственной сферы военные функции обособились от собственно государственных, политических. При этом произошло определенное вырождение власти: если первоначально она возглавлялась воинами, выражаясь в современных терминах, военными людьми, способными и готовыми воевать и умирать за власть, то с появлением наследственной монархии сила и мощь государств персонифицировалась отнюдь не в самых сильных людях, а военная сила приобрела служебный характер.
Возникшее таким образом разделение общества на государственную и гражданскую сферы трансформировалось впоследствии в разделение на государственную, военную и гражданскую (невоенную) сферы. Более развитые и явные формы оно приобрело в рабовладельческих государствах в связи с созданием армий и флотов, например, в Древнем Египте – в период Раннего царства, в конце IV – III тысячелетиях до н. э. Именно тогда начала все более отчетливо проявляться взаимосвязь и взаимообусловленность войн и экономики. Как подчеркивал позднее Аристотель, рабы были основой богатства и главным источником его увеличения, являлись, «первым предметом владения». А источником рабов были войны. Для обеспечения армий и флотов оружием и другими предметами военного назначения государство начало взимать с населения военные налоги, проводить сборы продовольствия и фуража.
Постепенно формировалось военное производство, развивалась его специализация. Создавались основанные на рабском труде мастерские по изготовлению оружия. Для обеспечения повседневной жизнедеятельности войск развивается войсковое хозяйство, которое было слабо связано с хозяйством страны. Важнейшим источником удовлетворения текущих потребностей (в продовольствии и фураже) были военная добыча и прямой грабеж населения мест дислокации войск. Например, Александр Македонский, двинувшись в поход с 34-тысячным войском, совершил великие завоевания, довольствуя и снабжая свою постоянно разраставшуюся армию всем необходимым за счет военной добычи.
По мере развития производства, увеличения масштабов войн и, соответственно, численности армий роль экономики в военном деле возрастала. Различные аспекты усиливающихся взаимосвязей и взаимозависимости войны и экономики нашли отражение в многочисленных высказываниях известных государственных и военных деятелей, научных работах по истории, экономике и военному делу, в художественной литературе разных эпох.
Экономические взаимосвязи войн и экономики все больше становились и предметом научного анализа. Первым в России источником, в котором военные вопросы уже рассматривались в системе организации общества и государства, была «Книга о скудости и богатстве». Написанная ставшим успешным предпринимателем и помещиком крестьянином, тем не менее, окончившим свои дни в Петропавловской крепости, И. Т. Посошковым еще в 1721–1724 гг. – более чем за 50 лет до появления знаменитого во всем мире «Богатства народов» А. Смита (1776 г.) – она составила целую эпоху в понимании вооруженных сил. В ней, в частности, подчеркивалась необходимость максимального освобождения армии от хозяйственных забот и сосредоточения ее исключительно на военной деятельности. Обращаясь к Петру I, Посошков писал, что воинство должно быть обеспечено всеми видами довольствия, иметь на вооружении наилучшее оружие и мастерски владеть им и всеми премудростями военного искусства, поэтому нельзя отвлекать воинов от ратного дела [14, с. 159; подробнее см.: 11].
Таким образом, можно в первом приближении сделать вывод о том, что сформировавшаяся в течение длительного исторического развития военная сфера – это область деятельности, направленной на удовлетворение военных потребностей общества, власти и олицетворяющих ее людей, на подготовку и ведение войн, обеспечение военной безопасности в совокупности взаимосвязанных ее элементов и составляющих, область ратного и обслуживающего его труда. В современных условиях она включает деятельность по разработке и реализации военной политики государства; комплектованию вооруженных сил и других силовых структур, обучению и воспитанию военнослужащих и военных специалистов; организации, управлению, вооружению и снаряжению вооруженных сил, созданию и развитию военной инфраструктуры; применению военной силы в мирное и военное время. Организационно военная сфера представлена армией и другими силовыми структурами, военной инфраструктурой и военной экономикой.
Гражданская сфера - это область хозяйственной и иной деятельности, направленной преимущественно на удовлетворение не связанных с войной и обеспечением военной безопасности потребностей. Как будет показано автором в последующих публикациях, разграничение военной и гражданской сфер в известной степени условно, провести четкую грань между ними невозможно в силу многочисленных взаимосвязей и взаимопереходов одной в другую. Каждая из этих сфер представлена соответственно гражданским и военным сообществами, являющимися сложными корпоративными структурами со своими интересами, принципами и организационными культурами.
Ядром военного сообщества является его профессиональная часть переменного и постоянного состава - вооруженные силы. В военное сообщество входят не только военнослужащие, но и гражданский персонал вооруженных сил, резервисты и отставники, в той или иной мере сохранившие связь с вооруженными силами, а также военизированные подразделения других силовых ведомств.
Военные отличаются от гражданских образом жизни, постоянной подчиненностью вышестоящему командному составу, готовностью в любой момент выполнить приказ, сменить место пребывания, ограниченностью прав и свобод (запрещение состоять в политических партиях и движениях, заниматься предпринимательством, разглашать определенные сведения о своей деятельности), готовностью к самопожертвованию, если этого потребует долг Защитника Отечества. Подобный смысл и образ жизни должен компенсироваться обществом предоставлением определенный привилегий и престижностью статуса военных, что, однако, зависит от, в первую очередь, финансовых возможностей общества и государства, ситуацией внутри социума, соответствующим отношением гражданских людей к военным. Сегодня по-прежнему сохраняют актуальность если не слова, то дух высказывания Н. Макиавелли о том, что «не найдется ничего более единого, более слитного, более содружественного, чем жизнь гражданина и воина. Всем сословиям, существующим в государстве ради общего блага людей, не были бы нужны все учреждения, созданные для того, чтобы люди жили в страхе законов и Бога, если бы при этом не подготовлялась для их защиты сила, которая, будучи хорошо устроенной, спасает даже такие учреждения, которые сами по себе негодны. Наоборот, учреждения хорошие, но лишенные военной поддержки, распадаются совершенно так же, как разрушаются постройки роскошного королевского дворца, украшенные драгоценностями и золотом, но не защищенные от дождя… Благодаря этой необходимости, которую хорошо понимали законодатели империй и полководцы, жизнь солдата прославлялась другими гражданами, которые всячески старались ей следовать и подражать…» [7].
Список литературы Война и мир в ранней истории человечества и обособление гражданской и военной деятельности
- Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М.: Худ. литература, 1966. 824 с.
- Гераклит Ефесский. Фрагменты/Пер. В. Нилендера. М.: Изд-во «Мусагет», 1910. URL: http://geraklit.moy.su/publ/5-1-0-28 (дата обращения: 20.10.2017).
- Дэйви М. Эволюция войн/Пер. с англ. Л. А. Калашниковой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. 382 с.
- История Европы: в 3 т. Т. 1. Древняя Европа/отв. ред. Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1988. 742 с.
- Кабо В. Р. Первобытная доземледельческая община. М.: Наука, Глав. ред. восточной литературы, 1986. 303 с.
- Клаузевиц К. О войне/Пер. с нем. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. 824 с.
- Макиавелли Н. О военном искусстве/Пер. с итал.; современ. литературная редакция А. К. Осмолова. URL: https://fil.wikireading.ru/81678 (дата обращения: 20.12.2017).
- Маркс К. Капитал. Т. 1.//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 23. М.: Политиздат, 1968. 908 с.
- Моска Гаэтано. Постоянные армии/Пер. с итал.//Личность. Культура. Общество. 2009. Вып. 1 (№ 46-47). С. 38-53.
- Мушегян Г. М. Социально-экономические и военно-политические факторы первоначального разделения общества на государственную и гражданскую сферы//Актуальные проблемы современной науки. 2008. № 4. С. 43-45.
- Ольшевский В. Г. Военная экономика и военно-экономическая мысль в системе социально-гуманитарных знаний: возникновение, развитие, современные проблемы//Экономика и социум. Электронное науч.-практ. период. издание. Вып. 3 (16), июль-сентябрь 2015. URL: https://readera.ru/140113993 (дата обращения: 20.12.2017).
- Ольшевский В. Г. Государство -армия -общество: к адекватному пониманию гражданско-военных отношений//Теория и практика современной науки. Междунар. научный журнал. 2015. № 4 (4). URL: http://modern-j.ru/domains_data/files/4/Olshevskiy%20V.G.pdf (дата обращения: 20.10.2017).
- Першиц А. И., Семенов Ю. И., Шнирельман В. А. Война и мир в ранней истории человечества: в 2-х т. Т. 1/РАН; Ин-т этнологии и антропологии. М.: ИЭИА, 1994. 176 с.
- Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. Ред. и коммент. Б. Б. Кафенгауза. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 11-244.
- Семенов Ю. И. Введение во всемирную историю. Вып. 2. История первобытного общества. Учеб. пособие. М.: МФТИ, 1998. 192 с.
- Шнирельман В. Л. Проблема доклассового и раннеклассового этноса в зарубежной этнографии//Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе/Ред. коллегия: Ю. В. Бромлей (отв. редактор), Л. Е. Куббель, А. И. Першиц. М.: Наука, 1982. С. 207-252.
- Cohen R. Warfare and State Formation: Wars Make States and States Make Wars//Warfare, Culture and Environment/R. B. Ferguson (ed.). Orlando, Fla: Academic Press, 1984. P. 329-358.
- Davie M. R. The Evolution of War. A Study of its Role in Early Societies/Published by Dover Publication, 2003. First Edition: New Haven: Yale Univ. Press, 1929. 392 p.
- Divale W. T. Warfare in primitive societies: A bibliography. Santa Barbara, Calif.: ABC-Clio, 1973. ХХХ. 123 p.
- Ferguson R. B., Farragher L. E. The anthropology of war. A bibliography. N.Y.: H.F. Guggenheim Foundation edition, 1988. 361 p.