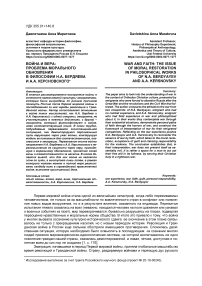Война и вера: проблема морального обновления в философии Н.А. Бердяева и А.А. Керсновского
Автор: Давлетшина Анна Маратовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается восприятие войны в контексте православной культуры эмигрантами, которые были вынуждены по разным причинам покинуть Россию после Первой мировой войны и последовавшей за ней череды революций и Гражданской войны. Автор сопоставляет отношение к войне таких мыслителей, как Н.А. Бердяев и А.А. Керсновский: с одной стороны, эмигранта, не участвующего в военных действиях, с другой - эмигранта, который философствует о войне, имея соответствующий опыт. В своих трудах, побуждаемые переживаемой экзистенциальной ситуацией, они демонстрируют персональный путь верующего через ужас войны, конструируя модель ее понимания для соотечественников, оказавшихся в эмиграции. Переживание опыта войны направляет Н.А. Бердяева и А.А. Керсновского к переосмыслению ее сущности через веру, приводящую к моральному обновлению, принятию своей вины и ответственности за насилие. В итоге делается вывод, что для них война не является злом по сути, а выступает лишь полем, в рамках которого человек может в полной мере реализовать свободу воли в справедливой нравственной войне, выполняя христианский долг.
Опыт войны, война, вера, вина, персональная ответственность, а.а. керсновский, н.а. бердяев
Короткий адрес: https://sciup.org/149134750
IDR: 149134750 | УДК: 355.01+140.8 | DOI: 10.24158/fik.2020.12.8
Текст научной статьи Война и вера: проблема морального обновления в философии Н.А. Бердяева и А.А. Керсновского
Первая мировой война стала одной из величайших катастроф, когда-либо переживаемых человечеством, не только из-за масштабности по вовлеченности стран в конфликт или появления новых видов вооружения, но и в результате влияния, оказанного на индивида. Пережитые испытания тяжело сказались на всех (неважно, находился человек на поле сражения или узнавал о военных событиях из газет), мир переворачивался, буквально разрушаясь на глазах, подвергая переоценке нравственные и моральные нормы общества. В итоге это привело к тому, что война у многих вызвала осознание культурно-исторического сдвига: ее окончание в этом плане связывалось не только с прекращением насилия, но с новым периодом истории. Революция и Гражданская война в России еще сильнее обострили имеющиеся противоречия. Сложилась двойственная ситуация, которую необходимо было осмыслить в последующем: «в сознании многих людей прежняя мировоззренческо-идеологическая система, на которой воспитывалось не одно поколение граждан нашей страны, оказалась демонтированной, а новая, четкая, доступная и понятная всем до сих пор не создана» [1, с. 176].
Эмиграция, начавшаяся в период Первой мировой войны, приняла глобальные масштабы во время революций и Гражданской войны. Страну, раздираемую войнами и теряющую дух русского
∗ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00240).
православия, покинули политические лидеры прошлого режима, деятели науки и культуры, практически все, кто поддерживал Белое движение, и т. д. Эти люди принадлежали к самым разным слоям общества, но в силу ряда объективных и субъективных причин и обстоятельств уехали из страны.
Вынужденные покинуть родину в период революционных изменений, часто оставляя не только привычную обстановку, но и близких друзей, эмигранты попадали в новую для себя среду, пытаясь воссоздать знакомый с детства дом. Испытывая вину перед оставшимися в Советской России, они искали путь исполнения долга перед родной страной в ситуации, когда вернуться невозможно. В философских сочинениях, автобиографиях и письмах русских эмигрантов, которые стали своего рода «полями сражений», написанных во время войн и революций, обнаруживаются не только их личные переживания, но и рассуждения о том, как не допустить войны в будущем или почему она была необходима, каким должен быть военный в моральном плане, чтобы даже в нечеловеческих условиях оставаться человеком. Неудивительно, что войну они рассматривали неотрывно от этики: «Моральный компонент дискуссии о войне представляется определяющим, поскольку, принимая во внимание все опасности и пороки войны, начало войны и ее ход всегда подлежат рассмотрению с точки зрения этики. При этом моральное обоснование дается не войне как таковой (она остается злом), но необходимости участия в ней и способу ее ведения» [2, с. 112].
Многие представители русской эмиграции в творчестве отражали духовно-нравственные поиски выхода России из исторического тупика. Н.А. Бердяев, В.Н. Соловьев, Н.С. Трубецкой видели угрозу в марксизме, который становился все более популярным в обществе, и противопоставляли ему идею новой миссии России и необходимости сохранения ее уникальности, своеобразия. Они считали, что только самобытная, созидающая собственную культуру Россия способна к возрождению. Война и ее последствия по-разному оценивались в горизонте персонального существования. Например, В.В. Винавер и И.И. Петрункевич, сохраняя религиозные убеждения, видели свою задачу как русских патриотов за рубежом в создании политической партии, которая сможет отстаивать интересы православной России за границей и сбережет русскую культуру. Так, В.В. Винавер пишет: «единственное, что мы могли сделать для России, это образование антибольшевистского фронта с социалистическими партиями» [3, с. 205].
Наблюдая за тем, как насильственно насаждался новый порядок в России, русские эмигранты осознавали, что Первая мировая война стала катастрофой для страны, запустила процесс разрушения не только основ государственности, но и православной веры. По сути, война привела к революции, поэтому только через понимание сущности войны можно попытаться ответить на вопросы о том, что будет дальше, может ли вера сохраниться после войны в этом новом мире или впереди только бездуховность и материализм.
В связи с этим представляется важным не просто рассмотреть, как воспринимались война и насилие, но проанализировать, как понималась война в контексте православной культуры. Сопоставление некоторых аспектов философии Н.А. Бердяева и А.А. Керсновского позволит выявить отношение этих мыслителей к войне: переживания эмигранта, не участвующего в военных действиях, – Н.А. Бердяева – и эмигранта, философствующего о ней на основе опыта участия в боях Гражданской войны, – А.А. Керсновского. Побуждаемые собственной экзистенциальной ситуацией, в работах они демонстрируют личные переживания верующего, прошедшего через ужас войны, формируя модель ее понимания для соотечественников, оказавшихся в эмиграции.
Н.А. Бердяев (1874–1948) отличался от многих эмигрантов тем, что не испытывал желания быть включенным в политику. Более того, как отмечает А.Р. Булатова, он «не бежал от революции, не участвовал в Гражданской войне, он пытался жить, писать, преподавать и даже высказывал свою гражданскую позицию, не побоявшись ВЧК» [4, с. 28]. Однако, как и все, он «жил вместе с войной и писал в живом трепетании события» [5].
Проблема личности, реализации свободы человека в истории стояла на первом месте в его философии. Война и революция виделись ему как духовные испытания – «судьи людей и народов, живущих в разрыве богочеловеческих связей» [6]. По мнению Н.А. Бердяева, во время войны власть коллектива преобладает над личностью, поскольку только при ослаблении личного сознания и усилении группового люди могут воевать [7, с. 126]. Одним из ужасов войны является то, что человек начинает относится к врагу не как к человеку (объективируя врага), а как к чему-то противостоящему. Самым опасным при этом становится объективация субъекта, которая применяется к врагу. «Враг – это существо, наиболее превращенное в объект, т. е. экзистенциально наиболее разобщенное» [8, с. 136]. Следовательно, по отношению к врагу можно применять необходимое насилие в целях сохранения своей свободы, отрицая свободу противника, что предстает своего рода «экзистенциальной диалектикой единства и разделения» [9, с. 124]. В итоге чем больше человек на войне открывает душу для вражды, зла и страданий, тем дальше он уходит от соборности, где сливаются человечность, духовность, красота и бессмертие. В связи с этим важно осмыслить сущность войны через веру и показать верующему правильный путь.
Природа войны в первую очередь символическая. Война происходит в иных планах бытия, пробуждает глубины духа, рождает новый культурный смысл. Н.А. Бердяев пишет, что «мировая война, в кровавый круговорот которой вовлечены уже все части света и все расы, должна в кровавых муках родить твердое сознание всечеловеческого единства» [10, с. 271]. В этом плане война становится источником обновления духа не только государств и народов, но и каждого человека, осознающего общность, понимающего, что на самом деле он не один, он един вместе с сотнями других христиан в осознании необходимости прекращения войны и насилия. Более того, по мнению Н.А. Бердяева, «война может принести России великие блага, не материальные только, но и духовные блага. Она пробуждает глубокое чувство народного, национального единства, преодолевает внутренний раздор и вражду, мелкие счеты партий, выявляет лик России, кует мужественный дух. Война изобличает ложь жизни, сбрасывает покровы, свергает фальшивые святыни. Она – великая проявительница» [11, с. 270].
Несомненно, война предстает великой трагедией, затрагивающей всех, но вместе с этим она просветляет души людей. Это очень важная мысль для философа, в которой он пытается донести, что человек по своей сущности не стремится к проявлению жесткости (хотя зло есть в каждом и задача христианина – бороться с ним всю жизнь), у него нет тотального желания причинять боль и страдания другому. Наоборот, на войну идут часто из благих целей – защитить семью, отдать долг родине. Значит, он готов к тому, что цена за свободу других может быть высока – смерть его материального тела, но не его души. Поэтому именно те периоды в истории, когда над различными группами и движениями провозглашается примат духа над материальной силой мира, обусловливают, по Н.А. Бердяеву, «пробуждение христианской совести», требующей переоценки базовых моральных ценностей. Война как великий долг, который готов отдать каждый на поле сражения, становится искуплением за все грехи человечества, и тогда «в войне ненависть переплавляется в любовь, а любовь в ненависть» [12, с. 290].
Война лишь создает ситуации зла, но не является злом сама по себе. Как сохранить человечность в «ужасе жизни», сражаясь на поле боя против таких же христиан, сберечь цельность души, когда кто-то умирает вместо тебя, когда ты спасся, а другие нет? Как после этого вернуться к общности в вере? «Мы все виноваты в войне, все ответственны за нее и не можем уйти от круговой поруки. Зло, живущее в каждом из нас, выявляется в войне, и ни для кого из нас война не есть что-то внешнее, от чего можно отвернуться. Необходимо взять на себя ответственность до конца. И мы постоянно ошибаемся, думая, что снимаем с себя ответственность или не принимаем ее вовсе. Нельзя грубо внешне понимать участие в войне и ответственность за нее. Мы все так или иначе участвуем в войне. Уже тем, что я принимаю государство, принимаю национальность, чувствую всенародную круговую поруку, хочу победы русским, я – участвую в войне и несу за нее ответственность» [13, с. 291]. Человек несет в душе груз ответственности за происходящее на войне, и это приводит к осознанию и переживанию вины каждого вне зависимости от того, отдавал ли этот человек приказ об убийстве, убивал сам, узнавал о произошедшем в газетных сообщениях. Поэтому Н.А. Бердяев считает катастрофичным влияние войны на душу и соборность народа в вере.
В то же время война выступает испытанием свободной воли человека, которая дана ему Богом. Принятие войны есть принятие трагического ужаса: «весь ужас жизни изживается христианином, как крест и искупление вины. Война есть вина, но она также есть и искупление вины. В ней неправедная, грешная злая жизнь возносится на крест» [14, с. 291]. Война двойственна: с одной стороны, она может привести к потери духовности и человечности, с другой – она же является началом для всечеловеческой любви. Именно в состоянии невозможности избежать войны каждый сталкивается с осознанием собственной свободы воли и выбора – смириться и отказаться от нее или пойти по пути христианина и принять эту свободу, соотнеся ее с волей Бога. Только выбирая второй путь, можно сохранить свою цельность в ситуации тотального и бессмысленного насилия и вновь обрести Бога.
В своей философии Н.А. Бердяев, осмысляя войну в христианском ключе, предлагает личный путь для верующего, который включает человека в общемировой процесс через персональную вину и ответственность за насилие на войне. В духе экзистенциализма он оценивает войну как необходимое испытание духа каждого, проверку его стойкости и возможность духовного обновления, поскольку Христос ждет всех и каждый может покаяться.
В среде бывших военных эмигрантов, которые имели опыт боевых сражений, также можно наблюдать осмысление войны через призму православной веры. В этом плане интерес представляют философские сочинения А.А. Керсновского (1907–1944), написанные в эмиграции, где рефлексия о Первой мировой войне и Гражданской войне в России осуществляется в контексте связи войны и веры.
А.А. Керсновский является признанным военным историком и публицистом. Написанная им «История русской армии» (1933-1938) выступает одним из наиболее значимых трудов российской военной истории. Вторым основополагающим произведением считается «Философия войны» (1932-1939), где он обозначает собственно понимание справедливой и несправедливой войны в духе христианства. Для него война - это существенный факт отечественной истории, и поэтому «осмысление войны с русской точки зрения представляется для нас, русских, практически в величайшей степени важным» [15, с. 18].
Мыслитель делит все войны на три типа, применяя к ним критерий духовной ценности. Войны, которые ведутся в защиту высших духовных ценностей, являются справедливыми. Поэтому для него Гражданская война 1917–1922 гг. со стороны Белой гвардии, которая отдает долг России, - справедливая. Второй тип более распространен - это войны, развязываемые во имя интересов государства и нации. Именно во втором случае каждую из них нужно рассматривать отдельно через призму нравственности, поскольку с первого взгляда сложно определить, на базе каких принципов она ведется. Третий вид - войны, не отвечающие интересам и потребностям государства и нации, то, что он называет «бескорыстными авантюрами» [16, с. 19]. Большевики в Гражданской войне «авантюристы», так как в их войне нет духовности, присутствует только направленность на уничтожение. В итоге действия разных сторон в рамках одних и тех же событий во время войны могут быть оценены по-разному с точки зрения православной морали. Поэтому отстаивающие старую Россию с ее лозунгом «За Веру, Царя и Отечество!» ведут справедливую войну, а большевики с их отказом от веры не могут говорить о том, что восстанавливают справедливость. «Величайший варвар XIX столетия, Клаузевиц, выдвинул теорию “интегральной войны” на уничтожение. Теория Клаузевица была претворена в жизнь виднейшим из его учеников, Лениным, почему и все это учение мы будем называть “клаузевицко-ленинским”. Оно сводится к истреблению, уничтожению противника: не только к разгрому его вооруженной силы, но и полному порабощению и уничтожению его как нации для Клаузевица и его последователей, как класса для Ленина» [17, с. 22]. В связи с этим война Белой гвардии как реакция на установление новой власти большевиками была неизбежна и велась в целях сохранения основ православной культуры и веры.
Война нейтральна и не является злом по сути, скорее она средство: «войну ведут не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы побеждать. Немедленной целью войны является победа, конечной - мир, восстановление гармонии, являющейся естественным состоянием человеческого общества. Все остальное - уже излишества, а излишества пагубны. Диктуя мир побежденному врагу, следует руководствоваться строгой умеренностью, не доводить его до отчаяния излишними требованиями, которые лишь порождают ненависть, а стало быть, рано или поздно, новые войны. Заставить врага уважать себя, а для этого... уважать национальное и просто человеческое достоинство побежденного» [18, с. 22]. Мир представляет собой нормальное состояние человечества, к которому нужно стремиться и которое в наибольшей степени благоприятствует его духовному развитию. Война - «явление того же порядка, как болезнь для человеческого организма. Война - явление, таким образом, патологическое, нарушающее правильный обмен веществ государственного организма. Организм нации, ведущей войну, во многом можно уподобить человеческому организму в болезненном состоянии. Разница лишь в том, что человеческий организм не волен к заболеванию, тогда как государственный организм, наоборот, идет на риск “военного заболевания” сознательно» [19, с. 22].
Несомненно, во время войны зло проявляет себя в том или ином виде. Поэтому, даже если она основана на принципах справедливости, к ней следует прибегать лишь в безвыходных положениях. «Это правило, от которого возможно делать исключения разве лишь в случае очень худого мира, грозящего в конце концов пагубно отразиться на морали и благополучии страны» [20, с. 24]. Однако пацифизм для государства выступает отравляющей идеей: «если мы хотим предохранить государственный организм от патологического явления, именуемого войною, мы не станем заражать его пацифистскими идеями. Если мы желаем, чтобы наш организм сопротивлялся болезненным возбудителям, нам надо не ослаблять его в надежде, что микробы, растроганные нашей беззащитностью, посовестятся напасть на ослабленный организм, а наоборот, сколь можно более укреплять его. Укреплением нашего государственного организма соответственным режимом, внешним и внутренним, и профилактикой мы повысим его сопротивляемость как пацифистским утопиям вовне, так и марксистским лжеучениям изнутри, стало быть, уменьшим риск войны, как внешней, так и гражданской» [21, с. 28].
Рассуждая в работе «Философия войны» о насилии во время военных действий, А.А. Керс-новский задается вопросом, как происходящее можно осмыслить в рамках веры. Ответом становятся переосмысление основных положений христианства и критика приверженцев толстовского «непротивления злу силой», которое он понимает как признак кризиса православной культуры:
«Ошибка “непротивленцев злу” состоит в том, что личным поучениям Христа они стремятся придать характер общественный. Христос учил: “Ударившему тебя по щеке подставь другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку” (Матф. V:39–40; Лука. VI:29). Этим Он определил отношение человека к человеку. Сын Человеческий снес издевательства книжников и озверелой толпы. Ему стоило лишь захотеть, лишь подумать, огонь небесный испепелил бы судий и палачей. Он этого не сделал, явив миру неизреченный подвиг кротости и милосердия» [22, с. 18]. Христос, как полагает мыслитель, совсем не говорил, что взявшие меч погибнут от проказы, землетрясения или огня небесного. Единственное, от чего они могут погибнуть – от меча. Однако для этого нужно сразить мечом, прибегнуть к справедливой войне [23, с. 19]. Поэтому истинно верующий христианин может оправдать свое участие в войне, если эта война справедливая.
Переживание опыта войны приводит Н.А. Бердяева и А.А. Керсновского к переосмыслению сущности войны через веру, которая может стать для верующего проводником к моральному обновлению, принятию собственных вины и ответственности за насилие. Таким образом, война не является злом по сути, она дает возможность человеку в полной мере проявить свободу воли, выполняя христианский долг.
Ссылки:
-
1. Ростиславский Ю.О. Взгляды российской эмиграции на патриотизм и современность // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 119. С. 175–178.
-
2. Куманьков А. Философия войны: краткий очерк истории // Логос. 2019. Т. 29, № 3 (130). С. 99–116.
-
3. Среди тяжелых лет. Переписка М.М. Винавера с И.И. Петрункевичем в 1921–1923 гг. // Архив еврейской истории /
гл. ред. О.В. Будницкий. В 10 т. Т. 9. М., 2017. С. 190–303.
-
4. Сутягина Л.Э. Изгнание философов. С.Л. Франк и Н.А. Бердяев в 1922 г. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2018. № 3. С. 26–32.
-
5. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 2008. 651 с.
-
6. Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952. 246 с.
-
7. Там же.
-
8. Там же. С.136.
-
9. Там же. С.124.
-
10. Бердяев Н.А. Душа России // Русские философы о войне / сост. И.С. Даниленко. М.; Жуковский, 2005. С. 248–285.
-
11. Там же. С.270.
-
12. Бердяев Н.А. Мысли о природе войны // Русские философы о войне. С. 286–294.
-
13. Там же. С.291.
-
14. Тамже.
-
15. Керсновский А.А. О природе войны // Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции / сост. И.В. Домнин. М., 1999. С. 16–30.
-
16. Там же. С.19.
-
17. Там же. С.22.
-
18. Тамже.
-
19. Тамже.
-
20. Там же. С.24.
-
21. Там же. С.28.
-
22. Там же. С.18.
-
23. Там же. С.19.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Война и вера: проблема морального обновления в философии Н.А. Бердяева и А.А. Керсновского
- Ростиславский Ю.О. Взгляды российской эмиграции на патриотизм и современность // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 119. С. 175-178.
- Куманьков А. Философия войны: краткий очерк истории // Логос. 2019. Т. 29, № 3 (130). С. 99-116.
- Среди тяжелых лет. Переписка М.М. Винавера с И.И. Петрункевичем в 1921-1923 гг. // Архив еврейской истории / гл. ред. О.В. Будницкий. В 10 т. Т. 9. М., 2017. С. 190-303.
- Сутягина Л.Э. Изгнание философов. С.Л. Франк и Н.А. Бердяев в 1922 г. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2018. № 3. С. 26-32.
- Бердяев Н.А. Судьба России. М., 2008. 651 с.
- Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952. 246 с.
- Там же.
- Там же. С. 136.
- Там же. С. 124.
- Бердяев Н.А. Душа России // Русские философы о войне / сост. И.С. Даниленко. М.; Жуковский, 2005. С. 248-285.
- Там же. С. 270.
- Бердяев Н.А. Мысли о природе войны // Русские философы о войне. С. 286-294.
- Там же. С. 291.
- Там же.
- Керсновский А.А. О природе войны // Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции / сост. И.В. Домнин. М., 1999. С. 16-30.
- Там же. С. 19.
- Там же. С. 22.
- Там же.
- Там же.
- Там же. С. 24.
- Там же. С. 28.
- Там же. С. 18.
- Там же. С. 19.