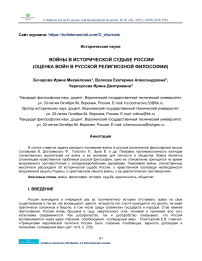Войны в исторической судьбе России (оценка войн в русской религиозной философии)
Автор: Бочарова Ирина Михайловна, Волкова Екатерина Александровна, Черноусова Ирина Дмитриевна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 26 (28), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится задача раскрыть понимание войны в русской религиозной философской мысли Соловьева В, Достоевского Ф., Толстого Л., Эрна В. и др. Показана противоположность взглядов отечественных мыслителей на войну и ее значение для личности и общества. Война является сложнейшей нравственной проблемой русской философии, само ее становление приходится на время вооруженного противостояния с западноевропейскими державами. Переживая войны, отечественные мыслители рассуждали об исторической судьбе России, о нравственной проповеди необходимости вооруженной защиты Родины, о христианском смысле войны, о ее диалектических противоречиях.
Война, философия, история, судьба, идентичность, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14133044
IDR: 14133044 | DOI: 10.5281/zenodo.15620398
Текст научной статьи Войны в исторической судьбе России (оценка войн в русской религиозной философии)
Россия вынуждена в очередной раз за тысячелетнюю историю отстаивать право на свое существование и так же, как восемьдесят, двести, четыреста лет спустя приходится это делать, не имея практически союзников в Европе, в том числе среди славянских государств и народов. Став камнем преткновения, Россия вновь брошена в гущу смертельного огня, понимая и принимая всю суть катаклизма современности. Как русофильство, так и русофобство показывают, что Россия воспринимается через идею спасения, освобождения, «солидарный мир». Спекторский Е.В. отмечал: «Принципами европейской политики России было спасение погибающих, верность договорам и союзникам, солидарный мир» [цит. по 6, С. 235].
«Если раньше тайны России волновали только представителей русской мысли, если раньше Сфинкс русского существования глубоко тревожил цивилизованную Европу, то теперь можно сделать вывод, что не было эпохи ни в русской, ни в европейской истории, когда вопрос о России не стоял бы с такой остротой» [13, С. 300].
На миролюбие и дружбу соседей надеяться никогда не приходилось, потому что «не приходило поколение в истории европейской без войны» [13, C. 300]. И исходя из исторического опыта, мы можем надеяться «на свой меч, а не на дружбу Европы». Эту точку зрения разделял и Н.Я. Данилевский: «Европа не признает нас своими, потому что видит в России и славянах нечто чуждое ей, а вместе с тем мы служим для нее материалом, из которого она могла извлечь выгоду» [3].
Западноевропейское понимание русских и русскости как противоположности на протяжении двухсот лет проявляется в реальной политике в попытках обуздать «стихийность», «неопределенность» русского характера, «его загадочность», «непредсказуемость» и «противоречивость», данные характеристики определяются зарубежными и отечественными мыслителями как причина, которая заставляет Запад считать Россию враждебной, фобия же и порождает стремление подчинять и контролировать.
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Темой данной статьи является война, ее оценка представителями русской религиозной философии в первую очередь В. Соловьевым, Ф. Достоевским, Л. Толстым, Н. Бердяевым, В. Эрном и другими. Характеристики войны были установлены многими мыслителями, мы определяем войну как период, когда ведутся, то есть организовано происходят военные действия. Войну также можно охарактеризовать как столкновение государств, правительств и войск. По типам принято выделять войны справедливые и несправедливые, захватнические, национально-освободительные, религиозные, гражданские. Отечественные философы - войны и военные действия рассматривали как проявление, зла. Зло войны – это крайняя вражда между народами, государствами, национальными лидерами. Но очень часто война – это желание одних отстоять свое существование, независимость, национальную идентичность, культуру. Поэтому одну сторону конфликта можно охарактеризовать как защищающую свое существование, а другую как нападающую, а потому для одной стороны война носит справедливый характер, а для другой несправедливый, агрессивный. По мнению И.Л. Солоневича, «загадочный образ России» и такие черты его как «безгосударственность», «жертвенность», «пассивность», «мистицизм» и т.п., провоцировали западные державы. Актуальна на данную тему следующая мысль автора: «Так называемый, русский сфинкс сейчас навис над Европой - может быть, и над всем миром, он ставит перед этим миром такую загадку, какую его сказочный предшественник ставил всякого рода Эдипам. Неудачный отгадчик рискует быть проглоченным. Последним незадачливым Эдипом был Гитлер. Будут ли другие? Все Эдипы, до сих пор проглоченные Россией - никакого счастья русскому народу не принесли. (…) Лучше бы обойтись - России - без Эдипов, Эдипам - без России и обоим вместе без дальнейшей игры в загадки» [10]. В русской религиозной философии отношение к войне различных авторов может быть противоположным, при этом обвинить их в отсутствии патриотизма невозможно. Например, Владимир Соловьев в вопросе о войне выделял несколько, с его точки зрения, важных моментов. Во-первых, «война – это аномалия или зло? Безусловно, война — это зло, грех, гибель, страдание». Во-вторых, война – это «относительное зло». Окончание войны знаменует мир, но и сам мир может быть «справедливым или несправедливым». В-третьих, «война заканчивается договором, но будут ли его выполнять? Внешний мир не есть еще благо, он станет благом в связи с внутренним перерождением человечества, его одухотворенного развития». Соловьев горько замечает, что «международная вражда есть хроническая болезнь человечества». В качестве причины войны он видит «нравственное расстройство внутри человечества», для общественного оздоровления военные конфликты, по его словам, могут быть «необходимы и нужны как жар или рвота у больного» [9, С. 463].
Конечно, общественное рациональное восприятие войны отличается от ее субъективноличностного, индивидуального восприятия, где имеет место рассмотрение «войны по совести», через признание обязательности нравственных требований. И хотя большинство исторических примеров свидетельствуют о войнах как событиях, в ходе которых слабые присоединялись к сильным, но были войны и другого характера, так в Библии есть упоминание о войне, которая развязана не от нужды, а от дикой злобы.
Соловьев писал об этом так: «Дикий институт убийства так глубоко культивировался в течение тысячелетий и поощрялся, что пустил глубокие корни в мозгу человека» [9, С. 82]. Т. Гоббс отмечал, что братоубийственная история вызвана не голодом, а завистью. И отсюда, выводил свое заключение, что «идет война всех против всех» и «человек человеку волк».
«Война – это большой экзамен», - писал Владимир Эрн. Война раскрывает язвы и показывает болезненные состояния до которого дошел организм той или иной нации. Война выявляет скрытые достоинства, «на этом экзамене раскрывается духовный облик народа, который обрисовывается и раскрывается в потрясениях» [14, С. 392]. Самый трудный экзамен приходится на воинство, в котором проявляется национальный характер. Народная духовная сила, глубинные свойства народа проявляются в жестокости борьбы. Воинство, которое чувствует поддержку народа, способно проявлять высочайшее мужество. За двести лет война Европы против России стала закономерностью. Люди и нации, исполненные духом милитаризма, смотрят на войну как на священное событие и святую вещь. При этом Россия именно с Европой связана общей христианской религией и святынями, возможно именно поэтому так болезненно воспринимаются все ее выпады в адрес России.
Лев Толстой писал, что «страсти, возбуждаемые войной, так могут извратить религиозные чувства людей, что признанные учителя христианства благословляют от имени Христа убийства и грабежи, и благодарят Бога за победы, при которых земля покрывается горами искалеченных трупов» [14, С. 392]. Толстой прямо заявляет, что война есть убийство. И сколько бы людей не собирались вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя не называли, убийство самый худший грех на земле» [11, С. 81]. Толстой создатель великого романа «Война и мир», участник Крымской войны, автор «Севастопольских рассказов», судьба которого была связана с защитой нашего Отечества, мыслитель, чья позиция противника «сопротивления злу насилием» была критикуема. Оценивая военные столкновения прошлого, он писал, что войны, которые происходили в древней истории расширяли территории одних народов за счет других, но постепенно античный мир дряхлел и вырождался. Сами того не понимая, и не догадываясь они подготовили народы для появления Мессии, «сына человеческого» как носителя новых ценностей, отличных от античных. Христианская заповедь призывала любить врагов своих, «а любовь к врагам исключает войну, и враг перестает быть врагом, потому что война и христианство не совместимы» [11, С. 142]. Иисус Христос принес человечеству мир, в своей предкрестной молитве Он молил Своего Отца Небесного об одном: «да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино». (Ин. 17, 21) (Новый завет).
Русский религиозный философ, декан филологического факультета Московского университета Памфил Юркевич утверждал, что «единство всего человечества возможно только «под одним Богом» [15, С. 356]. Род человеческий должна объединить одна вера, общий закон и совершенство. «Такую цель нам указал Искупитель» [15, C.357]. Но религию мира и жертвующей любви люди превратили в источник нового разделения и вражды. Лев Толстой так определил человеческий фактор, который начал действовать в более позднее время: «только восстанавливая один народ против другого можно устраивать аристократию и самовластие» [11, С. 82]. Со времени христианство ставшее социальным институтом, идеологией государственной, затем мировой, не отрицает право «носить свой меч против зла». Сторонники новой веры видели великое торжество, «что крест Христов был воздвигнут над Римом». Владимир Соловьев отмечал: «Веру в великий Рим заменила вера в Новый Иерусалим», а войны, которые начали происходить между христианами оценивали как прискорбные, но остановить их не могли [9, Т. 1, С. 471].
В оценках отечественных религиозных философов войны занимают важное место и имеют и положительные замечания. Так позитивной стороной войны называют борьбу народа за свое существование, защиту своей идентичности, культуры, независимости. Право на это имеют все народы, это не зависит от средств борьбы. Национальная идея находит свое выражение (отражение) в национальном характере. Но иногда, как отмечают мыслители, идея принимает «уродливые» формы и становится искаженной (идея о вечном Риме, «Великой Германии, «европейском цветущем саде»). Все это перерождается в презрение и ненависть к другим народам, порождая экспансию против «варваров, индейцев, туземцев, православных славян, в том числе «азиатской Московии».
Но осуждение войны присутствует в общественном сознании, разделяющем суждение, что «война – это зло, а мир – это добро», и никто не скажет, что «мир – это зло, а война – благодеяние», что мир – это бедствие, потому что понимают, что есть благо мира и ужасы войны.». Василий Розанов писал о христианской метафизике: «Но непротивление злу – это не христианство и буддизм, это действительно русская стихия» [7, Т. 2. С. 231]. Желанный мир должен быть основан не на подавлении соседей, не на победе европейских наций над другими, а на паритете, уважении, сотрудничестве, но особого воздержания от войн не бывает, «сколько существует род человеческий, столько он воюет».
В XIX веке в массовом сознании формируется тотальный страх перед войной. Это вызвано тем, что происходит обогащение части государств с помощью нового оружия, заключение новых военнополитических союзов и ослабление старых. В XX веке происходят межгосударственные конфликты, которые сравнивают с громом, чьи удары до основания сотрясли всю европейскую систему жизни. «И стало ясно даже после многочисленных международных конференций и договоров, что нет причины считать, что войны подлежат упразднению. В ненависти дурные чувства и желания соединяются в ложном заявлении и зло войны остается крайней враждой и ненавистью» [14, С. 372].
Военные события, которые происходят можно охарактеризовать как «святые», когда остро ставится вопрос о нашем существовании как суверенного государства, как народа носителя православной религии и традиции, национальной культуры, ценностей. Война на первых этапах существования древнерусского государства стала необходимым условием и спасительной акцией. Новорожденному государству пришлось защищаться и защищать Европу от половцев, печенегов, монголо-татар. Бессмертен в веках подвиг юного Александра Невского и его дружины, князя Дмитрия Донского и благословившего его преподобного Сергия. «Куликовская битва способствовала единению духа и плоти России» [13, С. 297]. За Святую Русь сражались полки князя Пожарского. Из Руси Московской выросла Российская империя, равная государствам европейским, и уже Петр I, ведет войны за право быть европейцами. «Россия не боялась, чтобы ее лучше узнавали в Европе, она желала этого» [4, С. 62]. Но внешнеполитическая активность России на протяжении трехсот лет и ее блестящие победы вызывали раздражение «наших союзников» и неудержимое желание превратить победы в политическое поражение и на миролюбие Европы не приходится надеяться и по сей день. «Но Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские тем, что они русские, то есть славяне, ненавистное славянское племя» [Там же].
Россия постоянно испытывала и испытывает прессинг разнообразных форм западных агрессий (санкций). Мы не вызывали особых симпатий ни у западных, ни у наших восточных соседей». Федор Достоевский отмечал, что «если можно они всегда на нас ополчались. Они не могли не признавать только одного – нашу силу», «воля к победе – это единственный важный фактор в войне» «Европа каждый раз недооценивала Россию» [4, C. 62].
Достоевский рассматривал войну как патриотическое событие, способствующее единению народа и власти. Победа России в войне необходима для собственного спасения: «война освежает воздух, которым мы дышим» [4, C.62]. «Россия непобедима, даже если мы можем проиграть битвы, то останемся непобедимы единением нашего народного духа и сознанием народным. Нас не победят ни миллионы их золота, ни миллионы их армий» [4, C. 68]. Жертвы войны Достоевский оправдывает тем, что «без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и теряет способность к великодушию, мыслям и чувствам, и ожесточается, впадает в варварство. Без страдания не может быть счастья. Через страдание человек проходит как золото через огонь» [4, C 72].
Также и В. Соловьев международную вражду называет «хронической болезнью человечества», которая ведет к войне. При нравственном расстройстве внутри человечества, внешние войны могут быть «необходимы и полезны [9, С. 462].
Достоевский пытался развеять страх европейцев перед Россией, которая никогда «не бросится на Европу с мечом, не захватит и не отнимет у нее ничего», и как пророк заявлял, что Европа непременно соединиться против России если найдет возможность. Противостояние «духа Европы» и «духа России» проявляется и сегодня. «Гордость, материальная внешняя идея» «сталкивается со смиренной духовной внутренней русской идеей». «Меч - символ доблести», «меч свет только в святых руках и мерзок в руках разбойничьих» [13, С. 297].
Война для Европы важное ремесло и смысл жизни, «высшая спиритуализация и внешний предел одухотворения грубой тяжелой плоти». Для России символом защиты является не столько меч, сколько «святой крест». Российское воинство «светлое, бесстрашное есть «светлая сила» [13, С. 398]. Россия сильна святой верой в высшую правду. Правда всегда выше меча, а потому «война приобрела духовный смысл». На плечи армии возложена тяжелейшая цель - защита Отечества. Она жертвует многими лучшими своими сынами, «спасая от ужасов завоевателей, является опорой российского существования». Который раз «русская душа в титанической борьбе с подлым, циничным, жестоким противником проявляет беззаветное мужество и раскрывает мощь и силу своего духа.
Здесь уместно привести слова Николая Бердяева о том, что духовный подъем в Европе XIX века с верой в свободу, равенство и братство привел к духовному кризису, когда «вместо равенства, братства и свободы раскрылись новые формы неравенства и ненависти людей друг к другу» [2, С. 224]. Христианство, критикуемое как «неосуществимый» проект «Царства Божьего» или когда история христианства рассматривается как «сплошная великая неудача» [2, С. 225], по мнению философа, именно оно, христианство, задает человеку и человечеству высшие цели «символической природы», оно призывает человека «к какой-то иной, более высокой действительности» [2, С. 228]. Русская философия в теме взаимоотношений Востока и Запада», России и Европы признавала ценность и гениальность европейской культуры, но не европейской цивилизации, характеризуя ее как «бездушную и безбожную». Именно столкновение цивилизаций сегодня повергает мир в хаос отношений и в хаос войны. С точки зрения религиозной философии – это «историческая судьба», «в грядущем предстоит небывалая борьба добра и зла», «явление Христа Грядущего» и «отрицательных антихристианских сил, в итоге это должно завершиться явлением антихриста» [2, С.230]. России призвано быть в эпицентре этих событий. Нам не избежать стремления и необходимости овладеть достижениями современной цивилизации, несущей радость потребления, есть надежда на то, что, прозревая судьбы России, русские мыслители уповали на «духовность» и «душевность» русского человека, а значит и духовность культуры в противовес технократизму и экономическому материализму. Возможно ли религиозное преображение? В период страшных военных потрясений безусловно. Здесь война – «очистительная сила», сила, которая наполняет духовной энергией, благородством. Она создает условия для реализации высшей христианской ценности «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13) Иван Ильин писал о войне: «Мы испытываем войну как злосчастную тьму, в которой загораются слепящие лучи света», «война учит нас жить, любя нечто высшее». В русской религиозной философии разрабатывалась концепция «христолюбивого воинства». В середине XIX века, в разгар крымских войн, особое значение приобрела тема не просто ведения войны как акта политического, а как действия, освещенного идеей нравственного служения русского воинства, для которого государь и верность государю равноценна верности Богу. Государь отвечает перед Богом, он не должен «предпринимать войны без крайней нужды», «войны всегда разорительной для государства». При этом у Данилевского Н.Я. после Бога и его святой Церкви превыше всего у русского человека должна быть «идея славянства»: «Война очень большое зло, однако же не самое еще большее, - … есть нечто гораздо хуже войны, от чего война и может служить лекарством» и это «потеря своего национального лица» [3, С 53]. Русский царь выступает в концепции как «спаситель», «освободитель», тот кто ведет не просто «справедливую» войну, а войну «праведную» - «священную», по особенному это звучит в условиях войны с Турцией, на стороне которой выступали западные державы.
Бердяев отмечал: «Война есть не борьба за справедливость, а за онтологическую силу нации и государств… За осуществление своего назначения в мире» [2, С. 225]. Соловьев В. считает нравственной обязанностью каждого человека – защиту отечества, воюет воин «не из вражды или злобы к захватчикам», «а также не для того, чтобы спасти свою жизнь ценою жизни ближнего существа, а для того, чтобы защитить слабые существа, находящиеся под его покровительством» [9, С 481]. С точки зрения Соловьева, об этом он пишет в «Трех разговорах», «христолюбивое воинство», верное своему Спасителю и в условиях войны служит Христу. У К. Леонтьева задача России – защищать свое священное предание, «не давать секулярной и атеистической культуре Запада расшатывать устои и традиции общества» [8, С. 75]. «Великая вещь война!», «Самый высший род гражданства – это гражданство боевое, отдающее жизнь за Отчизну!» - восклицал Леонтьев. И у Достоевского военная угроза объединяет людей одной нации в единую семью и нет выше идеи «как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое отечество…» [4, С. 123]. Отсюда, для русского воина война – это миссия, миссия защитить и укрепить Россию, а в месте с тем и веру Христову. Особое значение для воинства имеет «то, с кем теперь Господь: с нами или с врагами нашими», «не Россия ли, если даст Господь, послужит и в будущем к обузданию адского духа безначалия, от коего мятутся теперь царства и народы?» [цит. по 8, C. 77]. «С нами Бог», «За нами Россия», «Кто, если не мы!», - с такими словами русские солдаты и офицеры вдохновенно шли на врага. Еще одним важным аспектом «христолюбивого воинства» является способность при всех ужасах и зверствах войны сохранять человеческий облик, «человеческое лицо». Богослов Флоровский Г. писал, что «не то страшно, что люди умирают, а то, что они перестают быть людьми» [12, С. 56]. Православная вера наставляет человека на путь добродетелей, «воин, укрепленный в христианской добродетели, не станет творить военные преступления, ибо его задача – не творить зло, а утверждать добро» [8, С. 66]. Каждый воин стремиться к победе. Победа в «священной войне» осуществима при условии, что в мир будут привнесены ценности более высокого духовного качества. У Бердяева война ведется не только среди людей на земле, но и среди ангелов и демонов на небесах, «она – неустранимое явление в отпавших от Бога планах бытия», «она начинается не с первыми выстрелами, а с накоплением ненависти в душах людей», «с забвения заповеди любви», «война изобличает ложь жизни, сбрасывает покровы, свергает фальшивые святыни», «она – великая проявительница» [1, С. 25]. Победа в священной войне может быть у воинства проигравшего, испытавшего поражение, но совершившего поистине самоотверженный подвиг (например, подвиг команды крейсера «Варяг»). Именно самоотверженность русского воинства – высшая характеристика, «явление высшего нравственного порядка» у Ильина, Лосского, Бердяева и других. Война обнажая самое низкое, вызывает и самое высокое в душе человека, она помогает выявить и устранить социальные пороки и болезни. «Героизм воинов, их жертвенное служение своим близким преображают души людей, заставляют по-новому осознать святость родной земли, свое национальное призвание», - писал Ильин [5, С. 14]. У Бердяева: «Воины – не убийцы. И на лицах воинов не лежит печать убийц. На наших мирных лицах можно чаще увидеть эту печать». Перед лицом врага нельзя сложить оружие, святые воины – это в первую очередь те, кто силой оружия отражал натиск врагов. У Эрна В.: «…Такова уж природа меча. Свят он в руках святых и мерзок в руках разбойничьих. Своей же собственной, внутренней правды он не имеет» [13, С. 38]. Главная задача воина пресекать зло, не давать ему распространиться. Толстой Л. Как противник войны и насилия был убежден, что «зло насилием победить нельзя», но, писал Бердяев Н. «можно применением силы ограничить проявление зла, насилие над беззащитным, можно не допустить убийства, истязания, грабежа» [1, С. 174-175]. Скворцов А. в «Русской религиозной этике войны XX века», рассмотрев взгляды русских религиозных мыслителей XIX века так охарактеризовал основные позиции: «1) Россия — самобытная, но не милитаристская держава (славянофилы), однако 2) ее национальный уклад и политические задачи чужды Европе (Н.Я. Данилевский), следовательно, 3) не исключена вооруженная защита своего исторического призвания по строительству православной федерации государств в священной войне, которую будут вести лучшие люди страны — воинство (К.Н. Леонтьев); при этом 4) пока мы столь подвержены греху, войны никуда не уйдут, но их нельзя оценивать однозначно, их последствия могут быть благотворными (Ф.М. Достоевский), к тому же 5) высшая религиозная санкция для воинства есть служение Христу (В.С. Соловьев)» [8, С. 87-88]. Любая война заканчивается миром. «Мир» с религиозной точки зрения – это «духовное принятие человеком Христа», другого мира человеку не найти.
Представители русской философии XIX- начала XX века Эрн, Ильин, Булгаков, Бердяев считали, что русский народ выстоял в чудовищных военных катастрофах века XX именно, благодаря той силе духа и нравственных качеств, что закладывалось христианской культурой, православным культом. История же второй половины XX века в России формирует личность, оторванную от традиций, от русской культуры, от культа советскую личность ни во что не верящую, кроме политической силы, нацеленной на построение «светлого» будущего и той военной мощи, что она создает для осуществления «мира во всем мире». Духовное возрождение России в войне, которая ведется Западом на Украине против России современными религиозными философами видится как возможность братским народам на постсоветском пространстве осуществить новый проект, и «чтобы победить врага на Украине, нужно победить самих себя» отмечает отечественный философ Александр Дугин. Бердяев видел в исторической судьбе человечества «четыре эпохи, четыре состояния: варварство, культура, цивилизация и религиозное преображение» [1, С. 50]. Являемся ли мы свидетелями преображения? «В окопах неверующих нет», но современная война, это «война за умы», «за души», для России за то, чтобы «быть», для Запада «чтобы господствовать». Украинский конфликт заставил каждого осмыслить себя и своё место: Кто я? Где я? С кем я? На вопрос «кто я» в условиях, когда Отечество вступает в вооруженное противостояние есть только один ответ, ты либо патриот, либо трус. И. Ильин писал: «Война насильственно вдвинула в наши души один общий предмет; она противопоставила нашему мелкому повседневному «здесь» – некое великое «там» и потрясла нас этим «там» до корня». Одни стали добровольцами, другие бежали, теряя Родину. Это время заставляет людей тянуться «душами» друг к другу, «люди чувствуют себя как бы ветвями и листьями единого дерева; их корни где-то сплелись; их души тянутся к одной и той же, единой цели», «там – мы», «там мы - русский народ» [5, С. 250]. Именно патриотическое чувство становится ответом на войну, в патриотизме видится – духовная сила, способная сплотить, возродить, преобразить народ и каждого, кто с этим народом себя ассоциирует. Ильин писал: «Каждый народ вносит в свою войну те нравы, те обычаи, то представление о добре и зле, то правосознание, ту доброту и то озлобление, ту способность к состраданию и самопожертвованию, которые он взрастил в себе. Момент напряженной борьбы обостряет и проявляет духовный уклад народной жизни и обнажает с неумолимою силою духовные и нравственные недочеты народной души», способность к самопожертвованию, особое напряжение духовных и творческих сил, а также воля, способны привести народ с такими качествами к победе» [5, С. 252].
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, по мысли русских религиозных философов война не может быть охарактеризована только отрицательно. Не верно определение войны как справедливой или несправедливой, так как справедливость будет иметь место в оправдании враждебных действий у любой стороны вооруженного конфликта. По мнению русских философов, оправдана лишь священная война. Священной является война, которая защищает Отечество и «высшие духовные святыни», несет мир, через несправедливость идет к добру. Вступление или невступление в войну оценивалось как большее или меньшее зло, при этом Бердяев отмечал, что безусловно «война есть зло, но станет злом наименьшим, если невступление в нее грозит большими несчастьями». На войне меньшая часть народа, ее воинство ценой своей жизни противостоит врагу. Воинскими доблестями принято считать мужество, храбрость, стойкость, отвагу, верность присяге, героизм, решимость победить, но высшее значение, с точки зрения русских религиозных философов, имеет самопожертвование, «готовность положить живот свой за други своя». В этом раскрывается смысл христианской любви и ее возможность осуществления в условиях войны. В этом залог и единения русского воинства, не только по составу своему однородно-православному, там, где воины плечом к плечу сражаются за единую Родину, нет места межнациональной и межконфессиональной вражде. Но война – это не только дело военных, тяготы и лишения, смерть и насилие испытывают мирные, гражданские люди. Отечественные мыслители указывали на необходимость поддержки воинства его народом, на формирование правильного отношения к войне несражающихся людей.