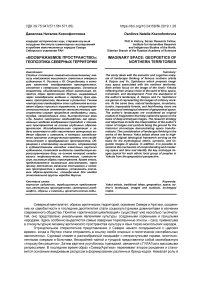"Воображаемое пространство": геопоэтика северных территорий
Автор: Данилова Наталия Ксенофонтовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена семантико-когнитивному анализу «пейзажного мышления» известных северных художников А. Осипова и Ю. Спиридонова, в котором заключено «воображаемое пространство», связанное с северными территориями. Основным концептом, объединяющим обоих живописцев, является образ Арктической Якутии, выражаемый через своеобразное видение и передачу духа времени, пространства, движения и развития. Гением «авторского ландшафта» этих художников выступают образы простых тружеников, а структурно-онтологическим элементом геопоэтического пространства служат природные ландшафты, горы, тундра, непроходимые леса, быстротечные реки и др. Анализ «авторских ландшафтов» как оригинальных моделей воображения приводит к пониманию пространства на основе глубинных образов-архетипов. Исследовательская стратегия и задачи включают в себя «прочтение» авторского видения образов и символов, в которых закладывается хронотоп исторического времени, что свидетельствует о преображениях пространства. Обращение к «пейзажному мышлению», отраженному в художественном наследии известных якутских художников, позволяет выделить самобытную мировоззренческую базу, на основе которой складывались мифологические, этнические, символические, языковые образы пространств. Кроме этого, представляется возможным рассмотреть через призму геопоэтики механизм постижения и освоения пространства и времени, установить ключевые образы-архетипы, специфичные для каждой этнолокальной группы народов Якутии.
Якутские художники, традиционные представления, геопоэтика, пространство, "авторский ландшафт", образы и символы, архетипические коды
Короткий адрес: https://sciup.org/149133828
IDR: 149133828 | УДК: 39:75.047(571.56+571.65) | DOI: 10.24158/fik.2019.1.26
Текст научной статьи "Воображаемое пространство": геопоэтика северных территорий
Данилова Наталия Ксенофонтовна
Северный менталитет, образы арктических территорий, освоение Севера и Арктики, сохранение их самобытности в последние десятилетия стали социокультурными доминантами в изучении современного общества. Понятие «арктическая цивилизация» существует уже несколько тысячелетий, оно представлено уникальными явлениями культуры, созданными коренными и пришлыми народами. Здесь особенно выделяются самые северные тюркоязычные этносы – саха, привнесшие в этнокультурную мозаику арктического пространства культуру и язык тюрко-монгольских народов.
Отрицательное стереотипное представление о Севере начало складываться с царских времен, когда в Якутию стали отправлять в ссылку особо опасных и политически нестабильных заключенных. Суровый климат и разнообразный ландшафт с неприступными горами, многочисленными озерами и болотами, бескрайней тайгой и тундрой представляли собой своеобразную «тюрьму без решеток». Затем картина усугубилась трагедией, связанной с ГУЛАГом и массовыми репрессиями. В последнее время образ «Север/Арктика» переживает второе рождение и становится основным имиджевым ресурсом в формировании различных бренд-кодов. Немалая роль в позитивном ребрендинге арктического пространства принадлежит якутским художникам, запечатлевшим его глубокую и бескрайнюю красоту. Так, ландшафт как панорама образует «постоянное пространство» и служит идеальной позицией для индивидуального видения мира [1, с. 13].
«Авторский ландшафт» Афанасия Осипова . А. Осипов [2] – профессиональный якутский художник, признанный мастер мирового уровня, создавший уникальную модель передачи действительности через сознание реалистичности и архетипичности, образование нерасторжимого единства обыденного и трансцендентального, профанного и сакрального. Его творчество «связано с интуитивным постижением роли и места вековых культурных традиций в современной действительности» [3].
Основой его творческого метода являются использование конкретного жизненного материала и достоверность образного решения. В работах отсутствуют как нарочито занимательные сюжеты, так и слишком приземленный бытовизм. Его творчество есть синтез современного восприятия мира и идущих из глубины веков народных традиций. В нем заключено более сложное внутреннее прочтение произведения, которое передано через символизацию северного пространства.
Концептуальная картина мира была переплетена с образом культуры степных кочевников, архетипом пространственной памяти о Юге. Данный метанарратив, основанный на «помнящей культуре» предков о южной прародине, пронизывает большинство работ А. Осипова.
Например, в его картинах всегда присутствуют семантизированный центр и периферийная область, переданные через образы гор, деревьев, коновязей, реки и др. Следует отметить, что в пространственно-временном континууме народа саха центр обозначается введением символической границы и временного хронотопа. Такое видение мира заложено в психоментальном пласте народа. В названиях произведений художник почти всегда указывает время: «Сентябрьский снег» (1989), «Осень на Амге» (1981), «Лошадки. На исходе зимы» (1995), «Серый мартовский день» (1997), «Летом у алааса» (2005), «Весенний вечер в Саккырыр» (2006) и т. д. Здесь следует отметить, что в якутской культуре познание времени и пространства исключает возможность их неопределенности, бесконечности, неохватности. Поэтому мифопоэтический мир всегда имеет четкие центр, границы и временные рамки. Все это ярко демонстрируется в мифах творения народа саха, когда освоенный мир вычленяется из окружающего Хаоса установлением границ [4, с. 56].
На полотнах А. Осипова изображены простые труженики, представители якутской интеллигенции, красота родных просторов, экзотическая природа других стран, многоликая и многокрасочная бесконечная жизнь, диалог человека и природы, духовности и бытности. Однако излюбленным мотивом и доминирующим пространственным образом в его творчестве являются горы, холмы, сопки, обладающие в зависимости от сюжетной композиции семантическими нагрузками центра или периферии. Недаром искусствоведы обозначили творчество А. Осипова «поэзией горных вершин». Совершенно верно отметила якутский искусствовед В.В. Тимофеева: «Эти картины являются пластической концепцией жизненной энергии природы Севера» [5].
В мифоритуальном пространстве этноса саха гора выступает как «чужой» периферийный локус с отрицательными характеристиками, но у локальной группы северных якутов сохранились архаические представления, связанные с тюрко-монгольским субстратом этногенеза народа саха. Изолированность от основного ядра этноса, а также компактность расселения способствовали сохранению архаического пласта южной культуры и духовного универсума, связанного с культом гор. У северных якутов образ горы представляется как центр Вселенной и наделен своеобразными мировоззренческими компонентами в отличие от трактовки центральных и вилюйских локальных групп якутов. В общей картине мира горы являются чужим и периферийным локусом.
В осиповских горных пейзажах наглядно продемонстрировано, как горы структурируют пространство по вертикальным и горизонтальным направлениям. Среди разбросанного по периметру горного массива четко выделяются центральные горы, вершины которых освещены солнечным светом или, наоборот, затуманены таинственным свечением, а на заднем фоне синей бахромой виднеются периферийные горы.
Окружающие монументальность и стационарность, созданные величественными горами, разбавляются извилистым руслом рек, вводящим в сюжет пейзажа динамичность и движение, артерию земли, из которой бьет жизнь. Так, в мифопоэтическом пространстве образ реки символизирует течение жизни и времени. Часто изображаемое с горными массивами солнце – солярный символ – отождествляется с Верхним миром и небесными божествами айыы . Лучи солнца, переливающиеся на горные пики, – божественные нити, соединяющие Срединный мир с Космосом.
«Горная поэзия» А. Осипова временами окутывается удивительной мистической таинственностью, притягательной загадочностью, трансцендентальным светом. Картины «Северный мотив» (1977), «Дыхание гор» (1987), «В ауре космоса» (2001), «Озарение над останцами Нель-канского перевала» (2002) и другие показывают, что безудержная любовь к Крайнему Северу, его неповторимому ландшафту, жажда познания и покорения горных вершин способствовали нахождению разных символических образов, связанных с уникальной красотой орографических объектов. Так возник образ «космического солнца» / «солнца в оболочке». На полотнах высоко над простором горного ландшафта располагается небесное светило. Мерцающие круги от него, которые соприкасаются с заснеженными горными вершинами и кончиками деревьев, связывают их в одно гармоничное и упорядоченное пространство. Таким образом, горы и деревья как мировые координаты составляют вертикальную структуру и представляют собой центр нравственных, религиозных, идеологических мировоззрений человека. В общей картине мира народа саха горы – это локус с отрицательной нагрузкой, но работы А. Осипова наделяют их образ символикой освоенности, света, связи с небесными божествами айыы.
Как отмечает Е.А. Окладникова, в системе мировоззрения людей архаического общества присутствует доминанта смысловой вертикали, которая разделяет сакральный ландшафт на зоны и соотносится с двумя идеями: актом «божественного творения» и «божественного порядка» [6, с. 216]. Данный тезис наглядно демонстрируется в осиповских пейзажах с сакральным горным ландшафтом.
«Авторский ландшафт» Юрия Спиридонова . Ю. Спиридонов [7] – долганский художник, яркий представитель одного из коренных малочисленных народов Севера. Долганы – самый северный тюркоязычный этнос, ведущий кочевой образ жизни в бескрайних просторах тундры, сложившийся в результате смешения тунгусских народов с локальной группой северных якутов-оленеводов. Первые упоминания о нем были зафиксированы лишь в XVII в. Картина мира долган формировалась под влиянием культур разных народов в границах обширной территории, включающей Туруханский край и север Якутии. Переплетение этногенетических линий и волн миграций, длительное соседство на смежных территориях определили возникновение самобытной культуры долган, сходной с традициями «контактных этносов».
Организация жизненного пространства долган связана с освоением бескрайней арктической тундры, практически круглогодично окруженной «белоснежной» пустотой. Несмотря на то что долганы ведут кочевой образ жизни и занимаются оленеводством, в их культурной памяти в аутентичной форме сохранены пространственные представления южных тюркоязычных предков – степных номадов. Так, в творчестве Ю. Спиридонова существенное место занимает проблема художественной концепции мира, которая нашла отражение в «авторском ландшафте» через геокультурные образы и символы.
В произведениях Ю. Спиридонова запечатлены неповторимые приметы Севера, его быта, широко развернуты картины его суровой природы. Его работы отличает особое отношение к географической действительности – условия жизни, быт, ландшафт, этико-религиозные ценности, национальный характер определяют уникальные национально-ментальные качества долган. Вместе с данными образами отражается и современный мир. В частности, сегодняшняя территория проживания долган – не только тундра, обжитая охотниками и оленеводами, но также гигант цветной металлургии – норильский комбинат, крупнейшие арктические порты Дудинка, Диксон, наконец, газопровод, прошедший по северной земле. Бинарные оппозиции – родное/чужое, священное/индустриальное – выступают основными символическими кодами моделирования «пейзажного мышления» Ю. Спиридонова.
Арктическое пространство неотделимо от времени с его нескончаемыми полярными ночами и днями, оно непостигаемо и недосягаемо. На картинах триптиха «Мой путь» (1981), а также «Розовый след» (1983), «Осень. Ночь на стойбище» (1985), «В краю, где не заходит солнце» и других показана эфемерность времени. Кажется, что пространство здесь не имеет никаких границ, при этом ощущается постоянное движение, поскольку у кочевников-оленеводов движе-ние/путь представляет собой основную составляющую жизненного пространства: жизнь как движение, движение как жизнь. Изображения предметов быта, хозяйствования (нарт, лыж, веревок арканов и др.), ландшафта (реки, тундры) и техники (вертолета, машины и др.) выступают ключевыми символическими кодами, показывающими жизненный путь северных народов, развитие жизни и расширение пространственного горизонта.
Серия картин, посвященных эскимосским мотивам, – «Охотник», «Танец охотника», «Ворон и девушка» и др. – раскрывает символическое видение художника и отражает единство человека и природы. Так, тело человека представляется моделью всего окружающего мира. В графическом листе «Эскимосская песня» пространство, время, человек и животные сливаются и таким образом раскрывают архетипическое представление об окружающем мире. При этом арсенал символов, архетипов, связанных с воображением пространства, передают специфическое представление о древнем восприятии модели мира.
Следующим важным символическим образом спиридоновских картин, с помощью которого актуализируется постижение пространства, является образ горы. У кочевников горы на фоне бескрайних просторов тундры выступают природным ориентиром, ядром ландшафта, точкой концентрации человеческого внимания и активности [8, с. 91]. Они представлены как «инфраструктурный топос культурного ландшафта» [9, с. 159]. Культурная память, связанная с тюркоязыч- ными предками, и древний архетип Мировой горы выражены в работах художника через гиперболизацию образа горы: «Хозяин Момских гор» (2008), «Портрет Иннокентия Слепцова», «Отчий край» из триптиха «Мой путь» (1981) и др.
Так, в центре внимания Ю. Спиридонова находятся человек, его судьба, деятельность, ментальность. Будучи сам выходцем из семьи кочевника-оленевода, художник, как никто другой, знает модель жизнедеятельности северных народов, у которых существует особый тип восприятия природы, когда на первое место выходят доверительные отношения с ней. Специфика жизнедеятельности северных этносов состоит в том, что здесь повседневность и сакральность одинаково значимы, что обусловлено духовной связью и глубинным пониманием освоенного природно-хозяйственного ареала. Поэтому люди на его картинах представляют собой собирательные аллегорические образы северных тружеников, кочевников, освоивших суровую арктическую землю.
Работы Ю. Спиридонова отличаются буйством красок, кажется, что он бросает вызов стереотипному образу «белой и пустынной» Арктики [10, с. 9]. В то же время через боль своих земли и народа художник показывает глобальную проблему, связанную с загрязнением и захламлением первозданной природной красоты. В частности, в серии картин «Боль моей земли» (1993) отражен индустриальный захват арктической территории. Как символы тьмы и людского легкомысленного отношения к природе изображены ржавые бочки, олицетворяющие противостояние Человека и Природы.
Итак, историко-когнитивный анализ «пейзажного мышления» известных северных художников позволил установить, что культурный ландшафт они воспринимали через «призму» знаков и символов, сопряженных с рациональным и ментальным переживанием пространства. Ментальная матрица и архетипические образы дают основные символические импульсы для художественной репрезентации геокультурных диалектов (гора, лес, вода, путь, движение и др.) согласно пространственной и культурной памяти, берущей начало в культуре кочевников.
«Воображаемое пространство», связанное с «арктичностью» (важным понятием, представляющим собой экзистенцию онтологических моделей арктических территорий, по Д.Н. Замятину) [11, с. 85], в «авторском ландшафте» А. Осипова повторяет картину мира народа саха и сформировано в соответствии с ее мировоззренческими постулатами: пространство освоено, когда оно отграничено. «Авторский ландшафт» Ю. Спиридонова продиктован ценностно-смысловой метафорой этнокультурного пространства северных народов, выраженной через общее представление ландшафта, метагеографических образов и артефактов. Однако основная позиция, характерная для обоих художников, заключается в том, что Север/Арктика не территория конкретных этносов, а кладовая природных и духовных ресурсов для всего человечества.
Следовательно, геопоэтика Севера/Арктики моделируется через различные архаичные пространственные коды, образы-топосы и на глубинном, ценностно-культурном уровне апеллирует к обычаям, народным традициям, ментальной карте этнической мозаики в ракурсе современных символических смыслов и образов.
Ссылки и примечания:
-
1. Свирида И.И. Ландшафт в культуре как пространство, образ и метафора // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007. С. 11–44.
-
2. Афанасий Николаевич Осипов (1928–2017 гг.) – живописец, действительный член Российской академии художеств, народный художник СССР, Российской Федерации. Народный художник Республики Саха (Якутия), заслуженный деятель искусств ЯАССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, лауреат премии Ленинского комсомола Якутии, член Союза художников России.
-
3. Тимофеева В.В. Архетипические символы в живописи А.Н. Осипова (На материале триптиха «Архангайские араты») // Диалог: музей и общество. Якутск, 2011. С. 224–227.
-
4. Семенова Л.Н. Эпический мир олонхо: пространственная организация и сюжетика. СПб., 2006.
-
5. Тимофеева В.В. Мастерство и вдохновение [Электронный ресурс] // Культурологический, историко-географический журнал. 2012. № 4. URL: http://ilin-yakutsk.narod.ru/2012-4/52.htm (дата обращения: 12.01.2019).
-
6. Окладникова Е.А. Сакральный ландшафт: теория и эмпирические исследовании. М. ; Берлин, 2014.
-
7. Юрий Васильевич Спиридонов (род. в 1952 г.) – председатель Союза художников Якутии, заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), народный художник Якутии, действительный член Академии Северного форума, действительный член Петровской академии науки и искусств (Санкт-Петербург), член Союза художников России.
-
8. Содномпилова М.Н. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских народов. Улан-Удэ, 2009.
-
9. Большова Н.А., Колчева Э.М. Структура этнокультурного пространства в художественно-этнографических работах 20–30-х гг. ХХ в. из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева // География искусства : сборник статей. Вып. 4. М., 2011. С. 154–172.
-
10. Романова Е.Н., Игнатьева В.Б., Дьяконов В.М. Степная сага коневодов Арктики: от древних времен до недавних событий // Этнографическое обозрение. 2016. № 4. С. 9–19.
-
11. Замятин Д.Н. Арктические геокультуры // Геокультуры Арктики. Методология анализа и прикладные исследования. М., 2017. С. 81–92.
Список литературы "Воображаемое пространство": геопоэтика северных территорий
- Свирида И.И. Ландшафт в культуре как пространство, образ и метафора // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007. С. 11-44.
- Тимофеева В.В. Мастерство и вдохновение [Электронный ресурс] // Культурологический, историко-географический журнал. 2012. № 4. URL: http://ilin-yakutsk.narod.ru/2012-4/52.htm (дата обращения: 12.01.2019).
- Окладникова Е.А. Сакральный ландшафт: теория и эмпирические исследовании. М.; Берлин, 2014.
- Содномпилова М.Н. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских народов. Улан-Удэ, 2009.
- Большова Н.А., Колчева Э.М. Структура этнокультурного пространства в художественно-этнографических работах 20-30-х гг. ХХ в. из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева // География искусства: сборник статей. Вып. 4. М., 2011. С. 154-172.
- Романова Е.Н., Игнатьева В.Б., Дьяконов В.М. Степная сага коневодов Арктики: от древних времен до недавних событий // Этнографическое обозрение. 2016. № 4. С. 9-19.
- Замятин Д.Н. Арктические геокультуры // Геокультуры Арктики. Методология анализа и прикладные исследования. М., 2017. С. 81-92.