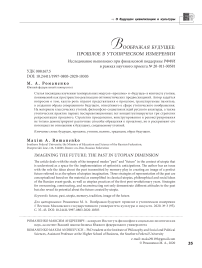Воображая будущее: прошлое в утопическом измерении
Автор: Романенко Максим Андреевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: О будущем цивилизации и культуры
Статья в выпуске: 3 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению темпоральных модусов «прошлое» и «будущее» в контексте утопии, понимаемой как пространство реализации оптимистических предвосхищений. Автор задаётся вопросом о том, какую роль играют представления о прошлом, транслируемые памятью, в создании образа совершенного будущего, отнесённого к сфере утопического воображения. На материале классических утопий, философско-социальных идей русского авангарда, а также утопических практик первых послереволюционных лет концептуализируются три стратегии репрезентации прошлого. Стратегии преодоления, конструирования и реконструирования не только демонстрируют различные способы обращения к прошлому, но и раскрывают его потенциал по отношению к будущему, создаваемому утопией.
Будущее, прошлое, утопия, память, традиция, образ будущего
Короткий адрес: https://sciup.org/144161369
IDR: 144161369 | УДК: 008:167.5 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10303
Текст научной статьи Воображая будущее: прошлое в утопическом измерении
РОМАНЕНКО МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ – аспирант Института философии и социально-политических наук, ассистент Высшей школы бизнеса Южного федерального университета
ROMANENKO MAXIM ANDREEVICH – PhD student at the Institute of Philosophy and Social and Political Sciences, Assistant Professor at the Higher School of Business, the Southern Federal University
Политические и социокультурные трансформации побуждают общество не только действовать в настоящем, но и, с одной стороны, оглянуться на прошлое, а с другой – задаться вопросом о будущем. Ретроспективный взгляд в этом случае приводит к переосмыслению уже имеющихся образов прошлого либо же к появлению новых, когда актуализируются одни исторические факты, а другие – забываются. Такая превратность наблюдается и в отношении будущего: возникают новые прогнозы, представления и ожидания, формирующие образ будущего как в личностном, так и в социальном измерении. Именно в такие пе- реходные моменты «происходят сущностные изменения в привычном порядке сочленения прошлого, настоящего и будущего» [15, с. 183], когда делается акцент на ту или иную темпоральную модальность, что, в свою очередь, определяет «режим исторической рефлексии» – понятие, предложенное Франсуа Артогом для описания восприятия и переживания времени [2].
Отражением изменений темпоральных отношений в современной культуре является не просто отказ от линейного восприятия времени и исторического процесса, но и развитие идей их многослойности и прерывистости. В ситуации, когда история не имеет единого смысла, а характеризуется раз-нонаправленностью и альтернативностью множества смыслов, будущее приобретает особенное значение.
Рассмотрение представлений о будущем в контексте утопии для нас оправдано не только, и даже не столько, способностью последней производить различные сценарии будущего, сколько использовать будущее с надеждой на лучшее – как пространство реализации оптимистических предвосхищений.
В связи с этим нас интересует вопрос о связи модусов «прошлого» и «будущего» в пространстве утопии. Мы попытаемся выяснить, какую роль играют представления о прошлом, воплощаемые в памяти, в идеализированном пространстве будущего, создаваемом утопией.
На первый взгляд – с формальной точ- ки зрения – понятия памяти и утопии кажутся противоположными и взаимоисключающими. Но за этой формальной противопоставленностью скрываются сложные диалектические отношения, выявлению которых посвящена настоящая статья.
В европейской общественной мысли из- учением отношения к прошлому занимался польский исследователь утопии Ежи Шацкий. В центре внимания учёного – традиция, понимаемая им в самом общем виде «как комплекс всех связей настоящего с прошлым» [17, с. 217], которые можно выразить тремя типами отношений, представляющими собой конструкты – веберовские «идеальные типы». Под этими типами Шацкий подразумевает: «(1) “утопическое” отрицание прошлого как такового; (2) “традиционалистское” превознесение прошлого как такового; (3) романтическая апология вполне определённого прошлого, выбранного из множества возможных» [17, с. 222]. Первые два типа, по замечанию самого автора, безусловно, не существуют в своих радикальных потенциях, их, скорее, можно отнести к сфере политической мифологии. Так, освобождение от традиции оказывается лишь «иллюзией», а традиционалистское отношение к прошлому, a priori предполагающее выбор и обоснование из прошлого чего-то конкретного, подрывает саму суть традиции.
Российская исследовательница утопии Е. Л. Черткова, в свою очередь, заявляет, что «историческая память, традиция – чуждые для утопии понятия» [16, с. 74]. С этим утверждением можно согласиться в том плане, что утопия с её критическим пафосом по отношению к настоящему рассматривает прошлое как негативный путь, который привёл к текущему положению, а потому и обращение к истории, принимающее разные формы – от сохранения статус-кво прошлого до провозглашения его безусловной преемственности – видится препятствием на пути создания совершенного общества. Черткова приводит пример из «Путешествия в Икарию» Этьена Кабе, где прошлое трактуется в таких категориях, как «невежество», «безумие»; оно противопоставлено идеальному устройству настоящего. Предлагалось даже «сжечь все старые книги, которые найдены были опасными или бесполезными» [8, с. 311]. Подобная враждебность к прошлому проявилась ещё на заре становления утопической традиции. Платон в «Государстве» писал: «Взяв, словно доску, государство и нравы людей, они [философы. – М. Р.] сперва очистили бы их, что совсем нелегко. Но, как ты знаешь, они с самого начала отличались бы от других тем, что не пожелали бы трогать ни частных лиц, ни государства и не стали бы вводить в государстве законы, пока не получили бы его чистым или сами не сделали бы его таким» [14, с. 306].
Вместе с тем Черткова отмечает, что функциональное значение негативизма к прошлому состоит не только в критике наличной действительности, но и в способе полагания идеала, заключающемся в видении прошлого как несовершенного. На последнем аспекте мы и хотели бы сделать акцент. Отрицание, или преодоление, тоже представляет собой форму взаимодействия: условно скажем, отрицательного взаимо- действия1, воплощающего диалектический закон единства и борьбы противоположностей. В результате – чем яростнее идеал устремляется в будущее, тем сильнее он порывает с настоящим и прошлым. Таким образом, абсолютный негативизм к прошлому в пространстве утопии приводит как раз к абсолютной идеализации будущего или к стремлению к абсолютному идеалу. «Свобода от прошлого открывает простор “социальной алхимии”» [16, с. 74].
Действие этого принципа можно проследить в культуре авангарда, представителям различных течений которого в России революционные события 1917 года предоставили широкий простор для утопического творчества и реализации самых смелых идей. Несмотря на всё многообразие форм и направлений художественного творчества, присущий им утопизм приобрёл программный характер [8, с. 35] и воплотился в устойчивом наборе сюжетов. Центральный сюжет – идея создания нового мира2 – выражался не только в телеологической и футуристической направленности авангардистского проекта, но в свойственном ему пафосе отрицания и преодоления прошлого. Обратимся к некоторым примерам.
Супрематическая концепция Казимира Малевича – яркая иллюстрация не просто декларативного отказа от прошлого, но и демонстрация возможностей его преодоления. Эта идея у Малевича исходила из ка- тегории беспредметности, которая, будучи изначально категорией пластического смысла, была распространена на уровень мироздания, став путём к постижению абсолюта и к началу нового мира. В социальном и культурном смысле это означало стирание индивидуальных, национальных, религиозных, языковых, расовых и иных особенностей, ставших результатом исторического развития: «Как нации должны потерять все свои особенности, язык, религию, обычаи, род, расу, так и весь мир должен потерять свою особенность ... ибо только тогда произойдёт уничтожение воли отдельного “я” за счёт единства общего …»1.
Прологом к миру будущего в футуризме было начинание с начала, воплощённое в символике «нуля». Этот символ, претворяя смыслы нигилизма и абсолютного познания, предлагал отречение от старого и предварял новый этап в развитии культуры, созданной как бы заново, с нуля.
Как писал Малевич в одном из стихотворений в футуристический период творчества [10]:
Если что-либо в действе твоём напоминает тебе уже днейное прошлое и говорит мне голос нового рождения:
Сотри, замолчи, туши скорее, если это огонь,
Чтобы легче были подолы мысли твоих и не заржавели.
Чтобы услыхать дыхание нового дня в пустыне,
Очисть слух свой и сотри старые дни …
1913 год
Отрицание прошлого, как было отмечено Шацким, относится к сфере мифологии. Будучи мифологемой, воплощающей в себе вечные смыслы обновления и перехода, негативизм к прошлому не может рассматриваться как проявление абсолютного начала совершенного мира, который не рождается ex nihilo . Такая позиция позволяет разглядеть деятельное начало в других типах отношений к прошлому, не отмеченных огульным критицизмом. Необходимость понять прошлое и отнестись к нему с разумной критичностью подводит нас к альтернативности как одной из характерных черт утопии, смысл которой в наличии (пусть и потенциально) иного бытия, либо ещё не наступившего, либо уже прошедшего. Это иное бытие возможно либо в будущем, при условии изменения настоящего, либо было бы возможно при допущении иного хода истории. Здесь любопытна идея Т. С. Паниотовой по обозначенной проблеме существования утопии в «сочленении прошлого, настоящего и будущего»: «Утопия – это не только несостоявшаяся история (прошлое), не только мечта о невозможном (настоящее), но и реальная возможность , время превращения которой в действительность ещё не наступило (будущее) <…> Но в полном объёме весь свой динамизм утопия способна проявиться лишь в отношении к будущему» [13, с. 81]. В таком случае «несостоявшаяся история» представляет собой некоторые факты из прошлого, несущие в себе фрагменты совершенства, но в силу каких-то причин не ставшие историей в том смысле, что не привели к совершенному настоящему. Утопия, реализуя в этом случае право на альтернативу, борется с заданностью истории, тем самым превращая несостоявшееся прошлое в источник для утопических построений.
Такой подход Шацкий описывает с помощью механизма «социологического романтизма», который позволяет выйти за рамки дихотомии преодоления и превознесения прошлого, или, выражаясь словами Маркса, создать ситуацию, когда «в самом древнем находят самое новое» [11, с. 44], что, конечно же, открывает путь, во-первых, для вхождения прошлого в утопию, а во-вторых – для его переосмысления.
Любые утопии – утопии бегства или ре-конструкции1 – связаны с неустроенностью настоящего и призваны либо уйти от такой реальности, либо же реконструировать её. Следовательно, в качестве ресурса для этого может рассматриваться и прошлое. С такой точки зрения утопия предполагает создание иного мира, в том числе вбирающего в себя ценности прошлого , проецируя их во времени (будущее) или/и в пространстве. Так, память как представление о прошлом даёт возможность – реальную или иллюзорную – находить решения сложившихся проблем в прошлом.
В наиболее радикальной форме подобный интерес к прошлому выражается в его превознесении. В утопической традиции это представлено мифологемой о «золотом веке», или «потерянном рае», которой присущ ностальгический оттенок как «совершенному времени». В «Трудах и днях» Гесиода мы встречаем миф о «золотом» поколении: «Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, Горя не зная, не зная трудов» [4, с. 55]. Несмотря на то, что это идеальное время безвозвратно утрачено, мечта о его достижении продолжает существовать. Ф. Аинса выделил в описании «золо- того века» характерные для утопии черты: «<…> не зная ни преступлений, ни законов, ни наказаний, ни войн, люди живут счастливые и беспечные на изобильной земле. “Золотой век” не знает эволюции. Всё установлено изначально и навсегда» [1, с. 42].
В основе утопического проекта необязательно должен лежать полноценный образ какого-то совершенного прошлого, это могут быть отдельные элементы, подвергнутые идеализации. Следы такого «взгляда назад» можно выявить и в утопии Платона, и в утопии Мора. В первом случае речь идёт об улучшенной версии полиса [6, с. 140–175], во втором – о вдохновении дисциплиной монастырской жизни [19].
Выявление следов прошлого в идеальном пространстве будущего позволяет обнаружить противоречивые отношения между прошлым и будущим в утопии, составляющие в своей парадоксальности её важную фундаментальную характеристику. Так, футуристический проект Велими-ра Хлебникова, несмотря на устремлённость к миру будущего, тем не менее был ретроспективным. Такое сопряжение стало результатом авторской концепции времени как четвёртого измерения. Время у Хлебникова – едино и непрерывно, а прошлое, настоящее и будущее соединяются в нём как фрагменты в результате циклического развития. «Потому так легко располагаются в пространстве хлебниковской утопии архаические мифопоэтические компоненты в соседстве с техническими достижениями будущего, образуя удивительный мир», – объясняет Т. В. Горячева [5, с. 93].
Такое сочленение прошлого и будущего свойственно авангардной культуре в целом (во всём её многообразии и многоязычии), когда присущий ей «антитрадиционализм» одновременно сопровождался «тра- диционностью» и интересом к прошлому. Как отмечает М. Ф. Надьярных, такая ситуация была возможна благодаря принципу дополнительности, соответствующему свойственной авангарду пограничности и стремлению к «разрыву» [12]. Действие этого принципа можно проследить в коллаже как художественном приёме, популярность которого в этом случае объясняется возможностью перекодировки смыслов и ценностей прошлого в новой коммуникативной системе.
Отдельного внимания заслуживает практика обращения создателей различных проектов совершенного общества будущего к влиятельной утопической традиции, уже сложившейся в общественной мысли, когда творцы нового мира заимствуют и комбинируют классические темы и сюжеты утопии1. Один из ярких примеров – это план монументальной пропаганды, идею которого Ленин позаимствовал у Кампанеллы. Предполагалось, как и в «Городе Солнца», с помощью выразительных надписей, барельефов и памятников (правда, вместо фресок – как было в оригинале) представить «всё достойное изучения» – объяснять лозунги марксизма и сохранять память о великих исторических событиях. Попытка создания большевиками идеального локуса, таким образом, не представлялась абсолютно новой и привходящей. Не только обращение к утопической форме, но и развитие с её помощью чувства преемственности (революционных идей, идеалов и смыслов) объясняли происходящие изменения и легитимировали новое мироустройство.
За интересом утопии к прошлому скрывается ситуация, при которой «взаимодействие утопии и исторической памяти может порождать специфическое невнимание к подробностям прошлого» [7]. Это связано с такими механизмами памяти, как забывание и вспоминание. «Невнимание» к подробностям И. Н. Ионов характеризует, с одной стороны, как неспособность сохранять многообразие событий прошлого, а с другой – как использование воображения для подмены или достраивания некоторых фактов прошлого. Повышение внимания к фактам прошлого следует, как отмечает Ионов, обращаясь к Мангейму, из воплощённости утопии – её постепенной историзации. «Но “историческая амнезия” не бывает полной и безусловной. Вытесняя из сознания память об отдельных событиях, она зачастую помогает при помощи спекулятивного инструментария структурировать большие группы образов прошлого, придавая уцелевшему содержанию исторической памяти более цельный и логичный характер» [7]. Таким образом, проективность в отношении будущего симметрично отражается и в прошлом, которое также оказывается спроектированным. «Утопии, – как пишет Лиман Саржент, – чётко осознают, что прошлое – это не евтопия2, поэтому прошлое также должно быть изменено и помещено в более достижимое место <…> Евтопия как раз о том, как выглядело бы прошлое, если бы было правильным» [20, p. 312]. Такое понимание может отражаться либо в романтизировании прошлого, о чём мы уже говорили выше, либо в ностальгировании по нему, но в последнем случае – речь всег- да о прошлом, которого и не существовало. Ностальгический образ возникает в памя- ти для того, чтобы вытеснить неприятные бытиям, которые могут сочетаться порой воспоминания.
Обращение утопии к памяти при одновременной футуристичности её устремлений вновь меняет представление о традиционном сочленении модусов времени, чтобы реконструировать на основе фрагментов совершенного устройства из прошлого совершенный образ будущего.
Рассмотрев категории «прошлое» и «будущее» в контексте утопии, мы можем выделить три стратегии использования прошлого в создании образа совершенного будущего. Первая – преодоление, или отрицание, предполагающее, что через негативизм к прошлому формируется образ идеального будущего. Вторая – конструирование. В этом случае в пространстве утопии как форме альтернативного бытия активную роль выполняет память. Именно она отсылает к прошедшим со- в противоречивых схемах, но каждое из них объясняет «неустроенность» настоящего, соединяя тем самым прошлое с идеальным будущим. Хотелось бы отметить в данном случае двустороннюю направленность такого взаимодействия: образы прошлого также подвержены конструированию в соответствии с ожидаемым идеалом. Реконструкция как третья стратегия имеет схожий механизм с конструированием. Обращение к прошлому здесь – попытка создать образ будущего на основе тех элементов идеала, которые утратили в процессе исторического развития признаки совершенства.
Становится понятно, что формирование оптимистических предвосхищений будущего не обходится без опыта прошлого, который может быть творчески реализован в пространстве утопии.
Список литературы Воображая будущее: прошлое в утопическом измерении
- Аинса Ф. Реконструкция утопии / предисл. Ф. Майора ; пер. с фр. Е. Гречаной, И. Стаф ; Российская академия наук, Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН. Москва : Наследие, 1999. 207 с.
- Артог Ф. Время и история // Анналы на рубеже веков : антология / Российская академия наук, Институт всеобщей истории ; отв. ред. А. Я. Гуревич ; сост. С. И. Лучицкая. Москва : XXI век : Согласие, 2002. С. 147-168.
- Бобринская Е. А. Русский авангард как историко-культурный феномен // Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : в 2 книгах / [под ред. Ю. Н. Гирина]. Москва : ИМЛИ РАН, 2010. Книга 2. С. 5-65.
- Гесиод. Труды и дни // Гесиод. Полное собрание текстов / вступительная статья В. Н. Ярхо ; комментарии О. П. Цыбенко и В. Н. Ярхо. Москва : Лабиринт, 2001. С. 51-76.
- Горячева Т. В. Утопии в искусстве русского авангарда: футуризм и супрематизм // Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : в 2 книгах / [под ред. Ю. Н. Гирина]. Москва : ИМЛИ РАН, 2010. Книга 2. С. 66-138.
- Гуторов В. А. Античная социальная утопия: вопросы истории и теории. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. 288 с.
- Ионов И. Н. Цивилизация и утопия: научные и гуманитарные предпосылки исторического синтеза [Электронный ресурс] // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория историография и практика конкретных исследований / под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. Москва : ИВИ РАН, 2004. С. 32-38. URL: https://www.history. vuzlib. su/book_o004_page_7.html
- Кабе Э. Путешествие в Икарию: философский и социальный роман : ч. 1-3 : в 2 томах / пер. с франц. под ред. Э. Л. Гуревича. Москва : Изд-во АН СССР, 1948. Том 1. 648 с.
- Каспэ И. Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних десятилетий социализма // Социологическое обозрение. 2015. Том 14. № 2. С. 41-69.
- Малевич К. Собрание сочинений : в 5 томах / общ. ред., вступ. ст., сост., подгот. текстов и коммент. А. С. Шатских. Москва : Гилея, 2004. Том 5. С. 441.
- МАРКС - ЭНГЕЛЬСУ, 25 МАРТА 1868 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения : в 50 томах. Москва : Политиздат, 1955-1981. Том 32. 1964. С. 43-46.
- Надьярных М. Ф. Авангард и проблема традиции // Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : в 2 книгах / [под ред. Ю. Н. Гирина]. Москва : ИМЛИ РАН, 2010. Книга 1. С. 229-265.
- Паниотова Т. С. Утопия в пространстве диалога культур / Ростовский государственный университет. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 2004. 303 с.
- Платон. Сочинения : в 3 томах : [пер. с древнегреч.]. Москва : Мысль, 1971. Т. 3 (1). 685 с.
- Репина Л. П. «Мост из прошлого в грядущее», или Вновь о метафоре памяти // Диалог со временем. 2012. Вып. 41. С. 181-190.
- Черткова Е. Л. Утопия как тип сознания // Общественные науки и современность. 1993. № 3. С. 71-81.
- Шацкий Е. Традиция. Обзор проблематики // Утопия и традиция : [пер. с польск.] / общ. ред. И послесл. В. А. Чаликовой. Москва : Прогресс, 1990. С. 205-435.
- Шацкий Е. Утопии // Утопия и традиция : [пер. с польск.] / общ. ред. и послесл. В. А. Чаликовой. Москва : Прогресс, 1990. С. 15-204.
- Duhamel P. Albert (1955) Medievalism of More's 'Utopia.' Studies in Philology, vol. 52, no. 2 : 99-126.
- Sargent L. (2011) Choosing Utopia: Utopianism as an Essential Element in Political Thought and Practice.
- In: Moylan T., Baccolini R. (ed.) Utopia Method Vision: The Use Value of Social Dreaming. Oxford, Peter Lang : 301-317. (In English)