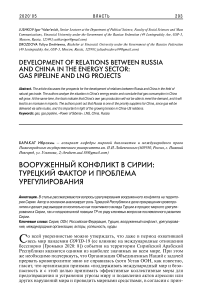Вооруженный конфликт в Сирии: турецкий фактор и проблема урегулирования
Автор: Баракат Ибрахим
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 5, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы урегулирования вооруженного конфликта на территории Сирии. Автор в основном анализирует роль Турецкой Республики в деле прекращения кровопролития и делает ряд выводов относительно как позитивного вклада Турции в процесс мирного урегулирования в Сирии, так и неоднозначной позиции ТР по ряду ключевых вопросов послевоенного развития Сирии.
Сирия, оон, российская федерация, турция, вооруженный конфликт, урегулирование, международные организации, акторы, успешность, курды
Короткий адрес: https://sciup.org/170171233
IDR: 170171233 | DOI: 10.31171/vlast.v28i5.7619
Текст научной статьи Вооруженный конфликт в Сирии: турецкий фактор и проблема урегулирования
Со всей уверенностью можно утверждать, что даже в период охватившей весь мир пандемии COVID-19 (ее влияние на международные отношения бесспорно [Громыко 2020: 8]) события на территории Сирийской Арабской Республики являются одними из наиболее значимых во всем мире. При этом же необходимо подчеркнуть, что Организация Объединенных Наций с задачей прервать кровопролитие явно не справилась (хотя Устав ООН, как известно, гласит, что организация призвана «поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с прин- ципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира»1). Универсальные ценности, такие как «мир», «демократия», «правопорядок», «мораль» и т.п., также не остановили насилие.
Улучшило ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики лишь вмешательство других государств, которые опять же руководствовались не столько универсальными ценностями, сколько национальными интересами. Подчеркнем также, что национальный интерес «состоит из трех факторов: природы интереса, который должен быть защищен, политического окружения, в котором действует интерес, и рациональной необходимости, ограничивающей выбор целей и средств»2 [Саидов, Кашинская 2005: 120].
Важно также подчеркнуть, что улучшение ситуации стало возможным благодаря реалистичному подходу, связанному с тем, что необходимо усадить за стол переговоров реальную оппозицию (не относящуюся, что крайне важно, к числу признанных международных террористов) и действующую власть. Собственно, это получилось сделать в рамках так называемого астанинского формата, поскольку, как совершенно верно отметил глава российского внешнеполитического ведомства С.В. Лавров, «до того, как был создан астанинский формат в конце 2016 – начале 2017 г., не было диалога между правительством и настоящей оппозицией. Единственная оппозиция, которую Западу удалось в то время собрать, состояла из иммигрантов, живших в Стамбуле, Эр-Рияде, в Европе и США. Они были представлены как партнеры для диалога»3. Совершенно очевидно, что обозначенная выше оппозиция либо не имела никакого влияния на ситуацию в САР, либо же таковое было минимальным. Вполне возможно, что американские и европейские дипломаты действовали по старым схемам, стремясь активно сотрудничать с «правительствами в изгнании» или же теми силами, которые можно было выдать за таковые. Применительно же к современной Сирии такой подход был в корне неверен (подчеркнем, что в данном случае гипотезу об активной поддержке элитой Запада международного терроризма мы не рассматриваем по причине недостаточной доказанности таковой).
Иную позицию по сравнению с США и их западными партнерами заняли Россия, Турция и Иран. Именно эти крупные акторы в регионе Ближнего Востока (одна великая и две региональные державы) «организовали формат, в котором за стол переговоров сели правительство и оппозиция, боровшаяся против него с оружием в руках. Именно таким образом нам удалось провести Конгресс сирийского национального диалога, созвать Конституционный комитет, и именно так был установлен режим прекращения огня на значительной части территории Сирии»4. Кроме того, означенные государства, принимающие живейшее участие в урегулировании сирийского конфликта, участвовали «в международных переговорах различного формата (“Женева-1”, “Женева-2”, “Группа действий по Сирии”, “Международная группа поддержки Сирии”), взаимодействовали на площадках по сирийскому урегулированию (в Вене, Мюнхене, Цюрихе, Женеве, Лозанне)» [Большаков, Мансуров
2018: 115]. Следует признать, что процесс нормализации положения в Сирии с участием Российской Федерации, Турции и Ирана стал по-настоящему эффективным (до 2014 г. вести речь о какой-либо эффективности вряд ли вообще стоило [Плотников 2017: 323]).
Итак, вклад не только РФ, равно как и Ирана, но также и Турции в деле урегулирования вооруженного конфликта в Сирии является общепризнанным. С.В. Лавров справедливо упоминал следующее: «…мы начали астанинский процесс вместе с Ираном и Турцией. Это на сегодня единственный процесс, который принес реальные результаты в том, что касается прекращения боевых действий, расширения поставок гуманитарной помощи, в немалой степени – укрепления доверия, обмена пленными, совместного розыска пропавших без вести, и последнее – но не по важности – создания условий для начала внятного политического процесса в полном соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН1, в рамках которой сами сирийцы определили бы судьбу своей страны»2.
Важно подчеркнуть при этом, что «Россия, Иран и Турция подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, “Джабхат ан-Нусры”3 и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с “Аль-Каидой” или ИГИЛ, которые признаны террористическими Советом Безопасности ООН; призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии полностью и безотлагательно отмежеваться от указанных выше террористических группировок» [Вахшитех, Лапенко 2018: 65].
В целом именно позиция как России, так и Турции привела к тому, что Сирия в 2014 г. во многом соответствовавшая критериям failed state [Пахомова 2017: 10-13], возрождается как государство. Свидетельством тому можно считать уже хотя бы тот факт, что большая часть территории страны находится под контролем администрации Б. Асада. Да и в экономике САР многие отмечают наличие положительной динамики4 [Русакович, Сухова 2015: 102].
Нельзя, правда, не признать, что, несмотря на большой вклад Турции в дело стабилизации ситуации в Сирии, отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой складываются весьма непросто – от почти полного разрыва отношений до согласия по ключевым вопросам повестки дня в мире.
Во многом такое положение дел связано с разным пониманием национальных интересов у РФ и ТР. Отрицать это, по меньшей мере, неразумно. С.В. Лавров заявлял, в частности, следующее: «… они [Турция и Иран] имеют свои конкретные озабоченности, не обязательно совпадающие с нашими подходами. Для Турции это курды, для Ирана – обеспечение прав братьев-шиитов, что в принципе нам понятно»5.
Итак, во-первых, признаем, что важнейшим вопросом, который может стать камнем преткновения, в т.ч. в отношениях между Россией и Турцией, может стать курдский вопрос. Примыкающие к сирийско-турецкой государственной границе районы населены во многом именно представителями курдского этноса. Последние, как известно, в существенной своей части стремятся создать собственное национальное государство и, как следствие, находятся в весьма напряженных отношениях с режимом Р.Т. Эрдогана. В таких реалиях турецкая армия по сути использовала свое стремление к урегулированию вооруженного противостояния в САР как возможность борьбы с курдскими вооруженными формированиями, находящимися за границей Турцией, но объективно угрожающими правящему в Турции режиму.
Сирийские курды, как известно, активно сопротивлялись международным террористическим организациям, действовавшим на территории Сирии. Кроме того, общеизвестно, что еще в 2012 г. администрация Б. Асада пошла навстречу ряду пожеланий сирийских курдов [Труевцев 2017: 147]. То есть, турецко-курдские противоречия объективно не содействуют воссоединению сирийского государства в полном объеме.
Далее, нельзя не отметить, что если руководство РФ всецело поддерживает действующую сирийскую власть и лично главу государства Б. Асада, то турецкая политическая элита в основном поддерживает сирийскую оппозицию (имеется в виду та самая оппозиция, которая стараниями России, Турции и Ирана была усажена за стол переговоров с официальными сирийскими властями). Важно отметить, что число оппозиционных сирийских группировок, ориентированных на тесное сотрудничество с Турцией, растет. Так, например, «еще совсем недавно “ХАТАШ” отказывалась от каких-либо отношений с Турцией и критиковала движения “Ахрар аш-Шам” и “Нур эд-Дин Эд-Зенки” за сотрудничество с Турцией по дипломатическим и военным вопросам. Отношение “ХАТАШ” к Турции внезапно изменилось после того, как организация открыто оказала поддержку турецким вооруженным силам в овладении ими позиций в северо-западных районах и создания там контрольно-наблюдательных пунктов» [Ахмедов 2019: 216]. То есть, позиция турецкого руководства по мирному урегулированию в САР может поменяться, в т.ч. и в зависимости от того, насколько стороны внутрисирийского диалога будут склонны к компромиссу.
Таким образом, с одной стороны, «несмотря на периодические нарушения режима прекращения огня и даже попытки возобновления военных действий в этих зонах, усилия трех стран способствовали улучшению гуманитарной ситуации и расширению переговорного формата» [Большаков, Мансуров 2018: 119], но, с другой стороны, памятуя о том, что «политика – искусство возможного», признаем, что сирийское урегулирование может осуществляться только в рамках достижения компромисса с участием России, Турции и Ирана. Укажем также, что, к сожалению, роль международных организаций, в т.ч. и ООН, в процессе урегулирования ситуации в САР весьма невелика, и пока нет оснований говорить об увеличении этой самой роли в ближайшей перспективе.
Список литературы Вооруженный конфликт в Сирии: турецкий фактор и проблема урегулирования
- Ахмедов В.М. 2019. Турецкий выбор. - Вестник Института востоковедения РАН. № 2(8). С. 214-220
- Большаков А.Г., Мансуров Т.З. 2018. Взаимодействие Ирана, России и Турции в сирийском конфликте и перспективы его урегулирования. - Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. Т. 14. № 2. С. 112-133
- Вахшитех А., Лапенко М.В. 2018. Переговорный процесс по Сирии в Астане: Итоги 2018 года. - Современные евразийские исследования. № 3. С. 59-70
- Громыко А.А. 2020. Коронавирус как фактор мировой политики. - Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. № 2(14). С. 5-13
- Пахомова Е.А. 2017. Failed state и "серые зоны" мировой политики: Порождение современности или пережитки прошлого. - Вестник Омской юридической академии. Т. 14. № 1. С. 10-14
- Плотников А.И. 2017. Роль Организации Объединенных Наций в урегулировании вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике (на основе резолюций Совета Безопасности ООН). - Социально-политические и историко-культурные аспекты современной геополитической ситуации: материалы международной научно-практической конференции X Научно-образовательного форума (под ред. В.В. Бобылева). Вып. 2. М.: Перо. С. 321-325
- Русакович В.И., Сухова Р.А. 2015. Международные санкции - препятствие или стимул к развитию малой экономики? (Опыт Сирии). - Научное обозрение. Сер. 1. Экономика и право. № 6. С. 99-107
- Саидов А.Х., Кашинская Л.Ф. 2005. Национальная безопасность и национальные интересы: Взаимосвязь и взаимодействие (опыт политико-правового анализа). - Журнал российского права. № 12(108). С. 119-126
- Труевцев К.М. 2017. Ближний Восток: Морфология конфликта и постконфликтный дизайн. - Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 10. № 2. С. 143-166