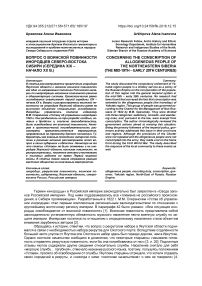Вопрос о воинской повинности инородцев северо-востока Сибири (середина XIX - начало XX в.)
Автор: Архипова Алена Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается привлечение инородцев Якутской области к несению воинской повинности как одно из направлений политики Российской империи по инкорпорации населения означенного региона в общеимперскую систему. Хронологические рамки исследования охватывают период середины XIX - начала XX в. Вопрос о распространении воинской повинности на инородцев Якутской области ранее не выступал объектом специального исследования. Инородцы управлялись согласно изданному М.М. Сперанским «Уставу об управлении инородцев» 1822 г. Они разделялись на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих и, согласно законодательству, были освобождены от воинской повинности. Автором в хронологической последовательности рассмотрены правительственные мероприятия, направленные на пересмотр данного положения. Губернаторы как главные проводники имперской политики в регионах активно рассматривали этот вопрос в своих губерниях и областях. Несмотря на то что статьи «Устава» не были отменены и на инородцев Якутской области воинская повинность не распространилась, население активно участвовало в тыловых работах во время Первой мировой войны. В статье также нашла отражение реакция местного общества на означенные мероприятия.
Инородцы, рекрутская повинность, воинская повинность, губернатор, якутская область, северо-восток России, российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/149133755
IDR: 149133755 | УДК: 94:355.212(571.56+571.65)“185/19” | DOI: 10.24158/fik.2018.12.15
Текст научной статьи Вопрос о воинской повинности инородцев северо-востока Сибири (середина XIX - начало XX в.)
Термин «инородцы» в Российской империи законодательно был закреплен в «Своде законов Российской империи». Под ними подразумевались все «племена не российского происхождения, в Сибири проживающие». Разработанный в 1822 г. М.М. Сперанским «Устав об управлении инородцев» стал первым комплексным региональным законодательством по отношению к крупнейшему восточному региону империи. В параграфе 42 было указано: «Все кочующие инородцы освобождаются от воинской повинности» [1]. Воинская повинность представляла собой законодательно установленную обязанность мужского населения нести военную службу по защите империи. Имперская политика по отношению к инородческому населению стала объектом внимания зарубежных авторов [2].
Обращаясь к истории, отметим, что вопрос о рекрутском наборе в Якутской области поднимался в связи с необходимостью набора рекрутов для Охотского порта. Вследствие отдаленности большей части улусов от Якутска или Охотска их набор здесь был гораздо дороже, чем в Иркутске. Однако охотское начальство сообщало в донесении, что некоторые старшины «изъявили готовность отправлять рекрутскую повинность, если бы она потребовалась от них» [3, л. 26]. Подлинные отзывы якутов содержали другие сведения относительно службы. Население считало для себя «морскую службу… пагубной», отмечало незнание русского языка, поэтому, пользуясь положением «Устава», просило об освобождении от службы. Якутские старшины отрицали, что хотели отдавать своих сородичей в рекруты, и «никогда с ними <охотским начальством> о сем не говорили» [4, л. 34]. Главное управление Восточной Сибири не могло проводить рекрутский набор якутов по общим правилам, поэтому администрации предлагалось отправлять желающих поступить на службу либо имеющих дурное поведение, нетерпимых обществом.
Рекрутское присутствие было образовано в Якутской области при областном правлении 18 августа 1842 г., находилось в подчинении Управления по делам воинской повинности Министерства внутренних дел [5, с. 159]. В него входили: областной начальник, два советника, два медицинских чиновника, областной стряпчий и военный приемщик. Сферой деятельности Управления был призыв на военную службу, составление списков призывников, их медицинское освидетельствование, подготовка отчетов по призывным участкам. Данный орган был упразднен в 1874 г. «Уставом о воинской повинности», согласно которому были созданы окружные по воинской повинности присутствия. С 1889 г. они были преобразованы в Управление уездных воинских начальников. После 1917 г. Якутское окружное по воинской повинности присутствие было заменено Комиссией по военным и казачьим делам при Якутском комитете общественной безопасности.
Появление «Устава» 1874 г. актуализировало вопрос привлечения инородцев Сибири к воинской повинности. Генерал-губернатор Восточной Сибири П.А. Фредерикс внес предложение на рассмотрение военному министру Д.А. Милютину. Военное ведомство согласно указу Александра II разрабатывало особое положение о воинской повинности для инородцев Российской империи. Как отмечают исследователи, это действие имело не военные, а чисто политические мотивы. Само возникновение вопроса о привлечении инородцев наряду с другими сословиями к военной службе имело для правительства значение «объединяющего в политическом смысле и цивилизующего начала» [6, с. 42; 7, с. 82].
В конце XIX в. исследованием данного вопроса занималась специально организованная комиссия, председателем которой назначили Н. Обручева. Изучив этот вопрос, организаторы пришли к выводу, что на общих основаниях стоит привлекать к службе инородческое население Томской и Тобольской губерний. Что же касается инородцев Восточной Сибири, их привлечение считалось возможным только «на основании специально изданных правил» [8, с. 83]. В будущем предполагалось поручить Министерству внутренних дел подготовить проекты о привлечении абсолютно всех оседлых и кочевых инородцев к воинской повинности.
Что касается отношения местной администрации – губернаторов к данному вопросу, то к концу XIX в. они выступали за введение у инородцев воинской повинности, рассматривая это мероприятие как одно из средств инкорпорации Якутской окраины в общеимперское пространство. Они подчеркивали, что данная мера способствует сближению инородцев с русскими и в итоге уравняет их в правах и обязанностях перед империей. Губернатор В.Н. Скрыпицын в своем ежегодном отчете императору отмечал, что якуты с «полнейшей готовностью» отнеслись к вопросу о распространении у них общей воинской службы. Это, «несомненно, ускорит обрусение местных оседлых инородцев» [9, л. 8]. Такого же мнения придерживалась администрация близкой по характеристикам Забайкальской области, также считавшая возможным привлечение коренных жителей своего края к отбыванию воинской повинности.
Следующим этапом стал 1900 г., в военном министерстве возник вопрос о привлечении к воинской повинности населения некоторых мест Сибири. Начальник Сибирского военного округа потребовал от якутского губернатора предоставить сведения по области, которые включали бы данные о численности общего мужского населения и размещении его по округам. Предлагалось проанализировать возможное число новобранцев-инородцев, при этом исключалось население Средне-Колымского, Верхоянского и Вилюйского округов. Кроме этого, необходимо было учитывать соотношение среди новобранцев численности русских и инородцев [10, л. 170]. Рассмотрение этого вопроса проходило на заседании общего присутствия Якутского областного правления. На нем постановили, что в «целях обрусения и сближения с русским элементом…» необходимо привлечь к отбыванию воинской повинности якутов Олёкминского, Якутского и Вилюйского округов [11, с. 67]. Окружные исправники отмечали, что, судя по опросам, якуты выражали полную готовность нести военную службу, но в то же время необходимо освобождать от нее всех бродячих инородцев [12, л. 170]. Изучив собранные сведения и учитывая «мнения сведущих лиц», администрация заключила, что тунгусов, бродячих инородцев и население северных округов от воинской повинности необходимо освободить. Предполагалось привлечь население Вилюйского округа, чей образ жизни соответствовал населению Якутского округа. Местный губернатор представил данные заключения в штаб Сибирского военного округа и иркутскому генерал-губернатору.
Губернатор И.И. Крафт отмечал, что «…якуты, побывав в течение нескольких лет на военной службе, вдали от своей родины, в культурных местностях и усвоив привычку жить в человеческих условиях, явятся лучшими проводниками усвоенных привычек и знаний в среду своих сородичей» [13, с. 104]. Воинская повинность станет средством «обрусения местных оседлых инородцев».
В 1913 г. признали возможным привлечь к воинской повинности инородцев Кавказа, Туркестана и Сибири, однако принятию изменений помешала начавшаяся Первая мировая война. Попытку призыва на военную службу инородцев области в связи с Первой мировой войной можно обозначить следующим этапом в развитии этого вопроса. Комитетом министров в 1914 г. издано положение о реквизиции, о мобилизации всех сибирских инородцев для тыловых работ. В первую очередь это распространялось на уволенные в запас чины, мужчин, прошедших армейскую подготовку. Учитывая размеры территории Якутской области и плотность населения, а также особый статус инородцев, представляется естественным, что количество солдат запаса здесь было гораздо меньше, чем в других областях и губерниях Сибири.
Якутские исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о количестве призванных из области в Первую мировую войну. По некоторым данным, к началу 1915 г. было призвано 374 чел., по подсчетам Т.В. Захаровой, в 1914 г. было мобилизовано 477 чел., по другим – 302 [14, с. 214–215; 15; 16, с. 57]. В 1915 г. за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации были награждены медалями 22 человека [17, с. 62]. В области под председательством губернатора Р.Э. Витте проходили собрание общества Красного Креста и мероприятия по организации помощи раненым воинам и их семьям. Летом 1915 г. на инородческом съезде было поддержано мнение губернатора и решено обложить каждого работника специальным сбором на нужды обороны в 50 к. [18, с. 62]. Губернатор рекомендовал применять это в отношении лишь состоятельных работников. Помимо этого, губернатор Витте организовал сбор средств на постройку санаториев для больных и раненых в Крыму и ряд других мероприятий по сбору пожертвований.
Отдельно необходимо остановиться на реакции местного населения на распоряжение о реквизиции инородцев на военные работы. Высочайшим повелением на тыловые работы по устройству оборонительных и других сооружений планировалось привлекать инородцев с 19 до 43 лет, однако в первую очередь в возрасте от 19 до 31 года. Эта реквизиция крайне тревожила местное население, так как над большинством хозяйств в случае массовой мобилизации нависала угроза потери рабочей силы. Это застало якутов врасплох и явилось для них совершенно неожиданным, губернатору поступали заявления с просьбой отсрочки от призыва [19, с. 1]. Улусные головы получили разрешение губернатора на проведение совещания по всеобщей реквизиции, обсудили на нем ряд вопросов. Их волновали предоставление льгот инородцам по семейным обстоятельствам, допустимый предельный возраст призывников, продовольственное обеспечение рабочих партий в пунктах сбора и во время следования [20, с. 1]. Специальные сборные пункты для инородцев открывались в Чите, Верхнеудинске, Иркутске, Киренске, Красноярске. В июле 1916 г. стало понятно, «всю призываемую инородческую массу рабочих» невозможно перевезти к действующей армии. Николай II в виде «особой милости» перенес мобилизацию аборигенов на середину сентября, а скопившееся на сборных пунктах население предписывалось распустить [21, с. 86]. Мобилизация сибирских инородцев на тыловые работы вновь началась летом 1916 г. В Якутском и Олёкминском округах планировалось мобилизовать порядка 10 тыс. чел., они должны были получить медицинское освидетельствование и прибыть на сборный пункт в Якутске. Таким категориям населения, как учителя и врачи, по усмотрению губернатора предоставлялась отсрочка, от призыва освобождались лица с высшим образованием, должностные лица инородческих управ и учащиеся. В результате на тыловые работы они не попали, правительство отложило их мобилизацию. Это связывают с ходатайством Ленского золотопромышленного товарищества [22, с. 402–403]. Лензолото характеризовало якутов как главных поставщиков продуктов питания – масла и мяса на прииски и отмечало, что их реквизиция отрицательно отразится на объеме добычи золота. А реквизиция пароходов Ленского товарищества для перевозки якутов «совершенно расстраивает его планы продовольственной программы» [23].
Мобилизация инородческого населения в Российской империи продолжалась и после свержения самодержавия, однако позднее Временное правительство выпустило указ о приостановлении их мобилизации на тыловые работы. Отмечалось, что «дальнейшее использование инородческого труда для нужд войны будет установлено… в соответствии с новым началом государственного строя» [24, с. 87]. Как показывает практика проведения мобилизации в других регионах Сибири, привлечение инородцев имело прямо противоположные последствия и порождало у них неприятие политических устоев империи, совсем не способствуя унификации сословий [25, с. 221–224].
Правительство считало, что освобождение части населения «от натуральной воинской повинности» противоречит части «Устава» о том, что «защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного», и тормозит «слияние ее с коренным населением» [26, с. 2]. Для русского населения Среднеколымского, Верхоянского и Вилюйского округов Якутской области сохранялось освобождение от воинской повинности. Основной причиной являлось то, что конечный результат не соответствовал бы затраченным силам и средствам. Не привлекались кочевые и бродячие якуты Верхоянского и Колымского округов. Наряду с инородцами Камчатской, Сахалинской и других областей и они были признаны «совершенно негодным материалом для комплектования армии». В пользу привлечения якутов Якутского и Олёкминского округов сыграло то обстоятельство, что малочисленное русское население области объякути-лось, вело быт, схожий с якутским, и несло воинскую повинность, а якуты нет. По мнению правительства, такое положение тормозило «переход якутов в оседлое состояние». Считалось, что якуты, ведущие оседлый образ жизни, опасаясь привлечения к повинности, старались внешне сохранять признаки кочевого быта. В пользу привлечения инородцев выступало и то обстоятельство, что, по сложившемуся мнению, в вопросе обучения военному делу якуты не представляли «хлопот», и эта мера стала бы толчком к культурному развитию народа.
Для проведения реформы было решено выяснить, проводится ли у инородцев регистрация населения. Составление призывных списков решено было поручить инородным управам, обязанность по призыву возложили на существующие воинские присутствия. Было решено, что общегосударственные и военные интересы требуют скорейшего привлечения якутов к отбыванию личной воинской повинности на общих основаниях. Также было намечено, где именно якуты, привыкшие к суровому климату, смогут нести службу. Логичным в этом отношении представлялась охрана водных путей и побережья Сибири.
В пореформенное время в окраинной политике империи происходит смещение акцентов, на первый план выдвигается вопрос о рациональности сохранения региональных особенностей национальных окраин. Ярким моментом проявления политики имперского регионализма являлось освобождение инородческого населения от отбывания воинской повинности. Губернаторы Якутской области как проводники имперской политики в регионах обеспечивали рассмотрение и внедрение данного вопроса. Вопрос привлечения инородцев Якутской области к воинской повинности не решился, причинами тому явились географический фактор и существующее законодательство.
Ссылки:
Список литературы Вопрос о воинской повинности инородцев северо-востока Сибири (середина XIX - начало XX в.)
- Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ-I). СПб., 1830. Т. 38. Закон 29126.
- Slocum J.W. Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Category of "Aliens" in Imperial Russia // The Russian Review. 1998. Vol. 57, iss. 2. P. 173-190. DOI: 10.1111/0036-0341.00017
- РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 377. Л. 26.
- Якутия. Хроника. Факты. События. 1632-1917. Якутск, 2000. 480 с.
- Дамешек Л.М. Окраинная политика империи и методы инкорпорации коренного населения сопредельных территорий России XVIII - начала XX в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2016. Т. 17. С. 35-47.
- Дамешек Л.М. Мобилизация сибирских инородцев на тыловые работы в годы Первой мировой войны // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2014. Т. 7. С. 79-87.
- НА РС(Я) (Нац. арх. Респ. Саха (Якутия)). Ф. 486-и. Оп. 2. Д. 60. Л. 8.
- ГАИО (Гос. арх. Иркут. обл.). Ф. 245. Оп. 1. Д. 2029. Л. 170.
- Общее обозрение Якутской области 1892-1902 гг. Якутск, 1902.
- ГАИО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2029. Л. 170.
- История Якутии в отчетах якутских губернаторов: сборник / сост. А.А. Калашников, А.А. Павлов. Якутск, 2007. 150 с.
- Федоров В.И. Якутия в эпоху войн и революций. Книга первая. М., 2002. 328 с.
- Павлов А.А. «На защиту русской земли дружно встанут все наши подданные…» Участие якутян в Первой мировой войне [Электронный ресурс] // Илин: историко-географический, культурологический журнал. 2005. № 4 (45). URL: ilin-yakutsk.narod.ru/2005-4/38.htm (дата обращения: 07.10.2017).
- Захарова Т.В. Мобилизация на Первую мировую войну в Якутской области: итоги 1914 года // Первая мировая война и проблемы российского общества: материалы междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2014. С. 232-236.
- Федоров В.И. Первая мировая война в судьбах «инородцев» // Якутский архив. 2004. № 2. С. 59-65.
- Якутские вопросы. 1916. № 3.
- История Якутской АССР: в 3 т. М., 1957. Т. 2. 419 с.
- Якутская окраина. 1916. № 4. 23 июля.
- ДСибирь в составе Российской империи / отв. ред. Л.М. Дамешек, А.В. Ремнев. М., 2007. 368 с.
- О привлечении к отбыванию воинской повинности некоторых частей населения, освобожденного от нее до настоящего времени. СПб., 1915. 39 с.