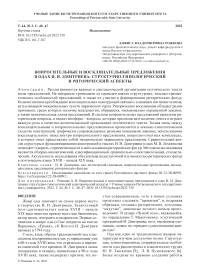Вопросительные и восклицательные предложения в одах И. И. Дмитриева: структурно-типологический и риторический аспекты
Автор: Рожкова Анфиса Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются важные в синтаксической организации поэтического текста виды предложений. На материале тринадцати од проведен анализ структурных, лексико-грамматических особенностей предложений, а также их участие в формировании риторических фигур. Количественное преобладание восклицательных конструкций связано с влиянием сентиментализма, актуализацией эмоциональных чувств лирического героя. Риторическое восклицание обладает рядом признаков, среди которых наличие междометия, обращения, эмоционально окрашенной лексики, а также незначительная длина предложений. В системе вопросительных предложений выявлены риторические вопросы, а также гипофоры - вопросы, которые предполагают наличие ответа и играют важную роль в сюжетно-композиционной организации поэтического текста. Тесная связь между восклицательными и вопросительными предложениями проявляется в лексико-типологическом сходстве конструкций, графически сопровождаемых разными концевыми знаками, использовании восклицательного знака внутри вопросительного предложения, вопросно-ответных комплексах, в которых ответ представляет собой эмоционально окрашенное предложение. Сравнительный анализ структуры и функционирования конструкций в текстах И. И. Дмитриева и одах М. В. Ломоносова позволяет говорить о преемственности в использовании риторических фигур. Методами исследования являются обзорно-аналитический, классификационный, сравнительно-сопоставительный, стилистический. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью риторических фигур в поэтическом языке XVIII - начала XIX века.
И. и. дмитриев, ода, поэтический синтаксис, вопросительные предложения, восклицательные предложения, риторические фигуры
Короткий адрес: https://sciup.org/147237250
IDR: 147237250 | УДК: 811.161.1367
Текст научной статьи Вопросительные и восклицательные предложения в одах И. И. Дмитриева: структурно-типологический и риторический аспекты
Жанр оды занимает не самое первое место в творчестве И. И. Дмитриева. Талантливый поэт-сентименталист конца XVIII – начала XIX века известен прежде всего как баснописец, автор песен, эпиграмм и мадригалов. Первые сочинения в жанре оды («Глас патриота на взятие Варшавы», «Ермак», «К Волге») И. Дмитриев написал в 1794 году.
Стиль, язык, образы традиционной оды классицизма воспринимались как устаревающие уже в 60-е годы XVIII века, что отразилось в пародиях писателей того времени. И. Дмитриев в своих эпиграммах и сатирах, написанных в 90-е годы XVIII века, также подвергает критике тех по- этов-современников, «кто в новых условиях продолжал следовать “правилам”, и, подражая образцам, создавал риторические, холодные, “надутые”, лишенные личного начала произ-ведения»1. В сатире «Чужой толк», являющейся, по определению Г. Макогоненко, эстетической программой И. Дмитриева, поэт, высмеивая одописцев, однако не отрицает существования жанра оды2.
Ода как один из традиционных жанров литературы изучена достаточно полно. Структурные, композиционные, содержательные особенности оды рассмотрены в классических трудах Ю. Н. Тынянова [9], Л. В. Пумпянского [6]. Более поздние по времени создания работы
свидетельствуют об интересе исследователей к этому жанру [1], [3], [4], [8], [10].
Одические произведения И. Дмитриева не стали объектом постоянного внимания литературоведов и лингвистов: анализ некоторых сочинений находим в отдельных исследованиях. Г. П. Макогоненко определял одические тексты И. Дмитриева как «обновленные оды»3. По мысли Е. Н. Купреяновой, проявившаяся еще в раннем творчестве ориентация поэта на повествовательный жанр сказалась и на торжественной оде, которая «приобретает в одах Дмитриева характер повествовательного жанра»4. Изменения, которые внес И. И. Дмитриев в одический стиль в 90-е годы XVIII века, В. В. Виноградов характеризует так:
«В борьбе с одическим слогом эпигонов ломоносовской школы тогда же определились основные разновидности средне-высокого лирического стиля в творчестве И. И. Дмитриева. Они представляли собой своеобразное смешение речевых форм державинской оды и сентиментальной элегии (в духе Хераскова или Муравьева)» [2: 80].
Соединение разностилевых элементов, воплощение собственного видения оды, ее языка, стиля, способа изложения событий, общей тональности привели к неоднозначному определению жанровой принадлежности одических произведений поэта. Так, произведение «На смерть князя Потемкина» характеризовалось как ода-поэма, ода-элегия [2: 74], элегия5; «На мир с Оттоманскою Портою» – как идил-лия6. Обзор разных точек зрения на жанровую специфику известного стихотворения «Ермак» представлен в статье современных исследователей А. В. Петрова, О. Ю. Колесниковой, которые сами определяют этот текст как лиро-эпико-драматическую поэму с «приметами “нисходящего” жанра – оды и жанра “восходящего” – баллады» [5: 75].
Несмотря на некоторый элемент новаторства, привносимый поэтом в стилистику и поэтику высокого жанра, исследователи тем не менее отмечают тесную связь произведений поэта с одами, созданными его знаменитыми предшественниками. Общеизвестным является факт, что одические произведения И. И. Дмитриева современники считали похожими на тексты Г. Р. Державина. В. В. Виноградов отмечал, что «в одическом стиле И. И. Дмитриева были сильны отголоски и старой, додержавинской традиции» [2: 73]. О связи стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождение Москвы» с одой М. В. Ломоносова писал Г. А. Макогоненко7. Обращение И. И. Дмитриева к высоким лирическим жанрам подтверж- дает литературную позицию поэта, для которого «не существовало принципиального антагонизма между поэзией классицизма и его стихами»8.
В предлагаемом исследовании объектом рассмотрения будут вопросительные и восклицательные предложения в одах И. И. Дмитриева. Сочетание таких конструкций в тексте представляет продолжение традиции, заложенной в одах М. В. Ломоносова. В связи с этим Ю. Н. Тынянов отмечал:
«Отчетливо сознавал Ломоносов интонационное значение “вопрошений” и “восклицаний” <…> Здесь – в соединении принципа смены вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации с принципом интонационного использования сложной строфы – и лежит декламационное своеобразие оды» [9: 233].
Особое внимание уделяется риторическим приемам, основанным на использовании восклицательных и вопросительных предложений. Риторика как искусство красноречия связана прежде всего с ораторской речью. О связи ораторской речи и оды писал Ю. Н. Тынянов, отмечая, что «элементы поэтического слова оказывались в оде использованными, конструированными под углом ораторского действия» [9: 230].
Материалом для исследования послужили 13 одических произведений И. И. Дмитриева9.
ТИПЫ И ФУНКЦИИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Вопросительные конструкции в исследуемых текстах распределены неравномерно. В частности, такие конструкции отсутствуют в двух более поздних по времени создания одах: «Стихи» и «Песнь на день коронования».
Структура вопросительных предложений представлена следующими типами:
-
1) простое двусоставное: «Чей сладкий глас несут зефиры?» 10 (Смерть КП);
-
2) осложненное двусоставное: «Давно ль беседовал ты с нами / И лиру испещрял цветами, / Готовясь в кроволитный бой?» (Смерть КП);
-
3) односоставное: «Чей блеск, чью мочь с твоей сравнить?» (Стихи на присоединение);
-
4) осложненное односоставное: «Не твоего ль, Израиль, сына / Чудесно видим между нас?» (Стихи на победу);
-
5) нечленимое: «Но что?» (Стихи на присоединение);
-
6) сложноподчиненное: «Но сею ль жертвою одною /Воздашь, Россия, днесь герою, /Которым славима была?» (Смерть КП);
-
7) сложносочиненное: «Во сне ли сладком я мечтаю, Иль истину в восторге зрю?» (На мир с ОП);
-
8) сложное бессоюзное: «Но где герой? куда сокрылся?» (ОМ);
-
9) сложное многокомпонентное:
«То нежным ветерком лобзаем, / То ревом бури и валов /Под черной тучей оглушаем /И отзывом твоих брегов, /Я плыл, скакал, летел стрелою - / Там видел горы над собою /И спрашивал: который век /Застал их в молодости сущих?» (К Волге).
Одним из средств в системе риторических фигур является риторический вопрос - «грамматический троп, использование формы вопроса в утвердительных или побудительных конструкциях»11. К риторическим отнесем следующие:
« Не Марса ль в каждом зришь герое? / Не всяк ли рока властелин ?» (Глас патриота), « <Красуйся, Рос-ская держава!> / Чей блеск, чью мочь с твоей сравнить?» (Стихи на присоединение), « Кто ж росс, кто с сердцем - и хвалою / Твоей не будет умилен? » (Стихи на всерадостный день), « Москва, России дочь любима, / Где равную тебе сыскать?» (ОМ).
В исследуемых текстах преимущественно используется такой тип вопроса, как гипофора -«фигура, состоящая в том, что говорящий задает себе вопрос, для того, чтобы самому же ответить на него»12. В оде «Ермак» на открывающий текст вопрос в следующем предложении дан развернутый ответ:
« Какое зрелище пред очи /Представила ты, древность, мне? / Под ризою угрюмой ночи, / При бледной в облаках луне, /Язрю Иртыш: крутит, сверкает <„> ».
В этом произведении нередко вопросы сопровождаются ответами. Например: « И от кого ж, о боги! пали? / От горсти русских!...». Своеобразна организация вопросно-ответного комплекса в финальных двух строфах, содержание которых связано с темой памяти о Ермаке, его подвиге. В предпоследней строфе содержится нанизывание восклицания и вопросов: « Но что я рек, о тень забвенна! / Что рек в усердии моем? / Где обелиск твой - <..>? ». Ответ на последний вопрос структурно продолжает незавершенную строку: « Где обелиск твой? - Мы не знаем, / Где даже прах твой был зарыт ». Полагаем, что ответ на первый вопрос дистанцирован и связан с содержанием последнего предложения, занимающего за счет пространной прямой речи часть предпоследней строфы и всю последнюю. Невозможность лирического героя даже «в усердии» описать подвиги Ермака компенсируется творчеством гения стихотворства, у которого есть песнь для прославления героя:
« Парящий стихотворства гений /Всяк день с Авророю златой, /В часы божественных явлений, /Над прахом плавает твоим / И сладку песнь гласит над ним <...>».
Еще одну особенность в использовании вопросно-ответного приема наблюдаем в диалоге двух героев оды «Ермак» - Младого и Старца. Прерывающийся вопрос одного из героев продолжается в реплике второго и является одновременно ответом: « Но что? ужели стон сердечный /Гонимых будет...» /«Вечный! Вечный! ». При таком расположении возникает особое экспрессивное напряжение, обусловленное намеренной паузой, неполнотой конструкций и их лексическим составом. Минимальное количество собственно риторических вопросов, использование вопросно-ответных приемов, неполнота и краткость вопросительных предложений определяют языковую особенность произведения «Ермак», которая позволяет говорить об отходе от классического одического канона и ориентации автора на жанровые повествовательные формы.
В оде «Глас патриота», как и в предыдущей, начало текста открывается вопросом и следующим за ним ответом: « Где буйны, гордые Титаны, / Смутившие Астреи дни? / Стремглав низвержены, попраны / В прах, в прах! ». Другой вопрос, включенный в прямую речь героев-воинов, дублируется в первой строке следующей строфы:
« “Скажи, скажи, о матерь, нам, / Склоня величественны взоры, /Куда еще лететь орлам?” /Куда лететь? кто днесь восстанет, / Сарматов зря ужасну часть? ».
Подхваченный таким образом вопрос предваряет пространное размышление автора, содержащее ответы на вопросы: « Речешь - и двиг-нется полсвета, /Различный образ и язык <...>», « Твой росс весь мир дрожать заставит <...>».
В оде «Освобождение Москвы» треть предпоследней строфы занимает комплекс из шести следующих друг за другом вопросительных конструкций:
« Но где герой?куда сокрылся? /Где сонм и князей и бояр? / Откуда звучный клик пустился? / Не царство ль он приемлет в дар? - / О! что я вижу? <...>». Ответы на вопросы продолжают строфу: « О! что я вижу? Победитель, / Москвы, отчества спаситель, / Забывши древность, подвиг дня /И вкруг него гремящу славу, / Вручает юноше державу, /Пред ним колена преклоня! ».
Структурно-грамматическая организация отдельных предложений, а также вопросительных комплексов в произведениях И. Дмитриева имеет сходные черты при сравнении с одами М. Ломоносова. Например, использование рядов следующих друг за другом вопросительных предложений (ср. с описанным выше примером из оды «ОМ»): «Где ныне похвальба твоя? / Где дерзость? / Где в бою упорство? / Где злость на северны края? Стамбул, где наших войск презорство?» (М. Ломоносов, Ода на взятие Хотина)13. Для конструкций с наречием где характерен эллипсис, и сходные примеры обнаруживаются в текстах обоих авторов: «Где ныне похвальба твоя?» (М. Ломоносов), «Где Польша? » (И. Дмитриев). Предыдущие исследования показывают, что эллиптические структуры составляют синтаксическую особенность простых вопросительных предложений с наречием где и в текстах других жанров И. Дмитриева [7]. Структурно-грамматические параллели усматриваются в вопросительных предложениях с начальными нечленимыми конструкциями, с частицей ли (ль): «Но что? <Внезапно мертв упал...>» (М. Ломоносов), «Но что? <ужели стон сердечный...», «Но что? <И ты, страна блаженна...>» (И. Дмитриев), «Не Марса ль в каждом зришь герое?» (И. Дмитриев), «Не Пинд ли под ногами зрю?» (М. Ломоносов). Приемы вопросно-ответной организации содержания, которые обнаружены в текстах И. Дмитриева, использовал в своих одах М. Ломоносов:
« Но спешно толь куда восходит / Внезапно мой плененный взор? / Видение мой дух возводит / Превыше Тессалийских гор !» (Ода на прибытие)14, «Что бьет за странной шум в мой слух? /Пустыня, лес и воздух воет! » (Ода на взятие Хотина).
ТИПЫ И ФУНКЦИИ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В произведениях И. И. Дмитриева восклицательные предложения характеризуются высокой частотой употребления. В среднем 62 % от числа всех предложений в каждом рассматриваемом тексте составляют восклицательные конструкции. Исключением является «Ода П. П. Бекетову», в которой лишь одно восклицательное предложение. Большое количество таких предложений содержится в одах «Песнь на день коронования» (14 из 19), «Стихи на победу» (6 из 8). Иное соотношение наблюдается в многострофных одах М. В. Ломоносова15, в кото -рых количество восклицательных конструкций не превышает восьми, а «Ода на день восшествия на всероссийский престол ея величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» включает одиннадцать восклицательных предложений, что также значительно меньше предложений, не имеющих эмоциональную окраску.
Формальным показателем эмоционально окрашенного предложения является восклицательный знак. При анализе грамматической структуры и коммуникативной направленности отдельных предложений возникает вопрос о последовательности использования автором конечного пунктуационного знака. Сравним два следующих друг за другом предложения:
«Даруй твой суд царю младому, / Да будет другом правды он; / Любезен добрым, грозен злому, / Дальнейшего услышит стон; / Народов разных повелитель, / Да будет гений-просветитель, / Краса и честь своим странам! Да будут дни его правленья / Для россов днями прославленья / И преданы от них векам » (Песнь на день коронования).
Синтаксическое, коммуникативное сходство последней конструкции с отдельными простыми частями предыдущего очевидно, однако наличие восклицательного знака в одном случае и отсутствие его в другом заставляют по-разному рассматривать эти предложения по эмоциональной окраске.
В произведениях И. И. Дмитриева находят отражение некоторые особенности пунктуационного оформления, характерные для письма той эпохи. Восклицательный знак может выступать как знак внутренний:
«Спокойся, мир! то росски чады, / Любители наук и муз, / Летят отважнейшим полетом / Обогатиться новым светом, /Вступить с Уранией в союз » (Стихи Павлу Первому), «Всяк подвиг божеству возможен, / Бессмертна! нет тебе препон!» (Стихи на присоединение).
В таких примерах актуализируется эмоциональная окраска содержания отдельной части предложения. Вопрос об использовании И. И. Дмитриевым восклицательного знака может быть рассмотрен в рамках другого исследования как на материале текстов самого автора, так и в сопоставлении с произведениями поэтов разных периодов. Имеющиеся работы показывают необходимость изучения восклицательного знака в художественном тексте как в диахроническом, так и синхроническом аспектах [11].
Структура восклицательных предложений достаточно разнообразна и включает в себя следующие типы:
-
1) простое двусоставное: «О, что за гимны слух мой внемлет!» (Стихи на всерадостный день);
-
2) осложненное двусоставное: «В день сей небесами, /Монархиня, ты нам дана, /Бессмертна многими венцами / И боле, чем войной, славна!» (Стихи на всерадостный день);
-
3) односоставное: «Простри и к нам твой светлый взор!» (Стихи на присоединение);
-
4) осложненное односоставное: « Не кройтесь в глубину, наяды! » (Стихи Павлу Первому);
-
5) нечленимое: « Но что!» (Стихи Павлу Первому);
-
6) сложное бессоюзное: «Всяк подвиг божеству возможен, / Бессмертна! нет тебе препон!» (Стихи на присоединение);
-
7) сложноподчиненное: «Бекетов! малым кто доволен, / Тому век бедным не бывать!» (Ода П. П. Бекетову);
-
8) сложносочиненное: «Завоеватель царств пре-славен; / Но добрый царь - бессмертым равен!» (Стихи на всерадостный день);
-
9) сложные многокомпонентные предложения: «Брать крепки грады россам мало, / Рекла -и царства вдруг не стало!» (Стихи на присоединение).
Среди сложных по структуре предложений встретились такие, в которых конечный восклицательный знак, служащий для обозначения синтаксической границы, подчеркивает особую эмоциональность только последней части. Она представляет собой прямую речь, вводимую в предыдущей части лексемами «говорения, обращения» (далее в примерах выделены):
«Друг смертных, гений в багрянице, / Глагол его есть глас отрад / Гонимым, сирому, вдовице / И благо миллионов чад; / Талант, достоинства, заслуги /Любимцы суть его и други, / А стражею любовь сердец; / Отвсюду разные языки / Торжественны возносят клики : / О Павел, Павел! наш отец!» (Стихи Павлу Первому), «И се невиданны народы / Чрез шумные камчатски воды / С подоблачных Кавказских гор / Гласят к ней сердцем и устами: / Владей, как бог незримый, нами!» (Стихи на присоединение).
В контексте рассмотрения восклицательных предложений является актуальным вопрос о риторическом восклицании. В настоящее время статус этого приема довольно спорный. Как отмечает Г. Г. Хазагеров, «сегодня говорить о Р. в. как о фигуре рано. Его можно рассматривать в ряду квазитропов, т. е. в одном ряду с тропа-ми-жанрами»16. Дискуссионный аспект отражен и в определении из словаря под редакцией А. П. Сковородникова:
«Риторическое восклицание - термин риторики, трактовка которого в словарях и справочниках либо отсутствует, либо существенно разнится у разных авторов, либо сводится к демонстрации примеров (без дефиниций)»17.
Следовательно, для решения вопроса об определении границ риторического восклицания необходимо ориентироваться на некоторые признаки. К таким признакам А. П. Сковородников относит эмоциональность, соответствующую интонацию, местоименные слова в несобственном значении, междометия, обращения, частицы, лексические и синтаксические повторы, особые зачины, начальное место в структуре предложения18. Пристальное внимание к про- блеме разграничения восклицательных предложений и собственно риторических восклицаний представляется важным и должно учитываться в исследованиях поэтического языка и при подготовке словарных, справочных изданий на материале стихотворных текстов.
В своей «Риторике» М. В. Ломоносов определял восклицание как «возвышение слова, умножающее в уме движение и дела великость изображающее, причем употребляются междометия восклицательные, удивительные и проч.»19. Конструкции с междометием о довольно активны в рассматриваемых текстах И. Дмитриева. (Отметим попутно, что достаточно часто это междометие употребляется и в текстах других жанров, ср.: «О, грустно воспоминанье!» (внежанровое стихотворение «Куда мне, сердце страстно...») , «О, приятна весть!» (внежанровое стихотворение «К честному человеку») , «О, дети, дети! как опасны ваши лета!» (басня «Петух, Кот и Мышонок») и др.). Риторическое восклицание представляет собой односоставное предложение (самостоятельное или в составе сложного): « О, страшная для нас невзгода! » (Ермак), « О радость! < Дайте, дайте лиру.. .>» (Стихи). Последний пример с таким лексическим наполнением неоднократно встречается в текстах поэта: « О радость! о восторг! о слава! » (Стихи на присоединение), « О радость ! о восторг все-местный !» (На мир с ОП), « О радость!.. » (Стихи на всерадостный день). Риторическое восклицание характерно для обращений, выступающих изолированно в качестве элемента текста или осложняющих структуру предложений: « О Павел ! [Ты единым словом, Не потрясая мира громом, Себя к бессмертным приобщил] », «Утешь нас радугой завета, / О бог судеб! о царь царей ! ». Риторическое восклицание может быть оформлено как фразеологизированная конструкция: « О, горе нам! » или именительный темы: «О, утро памятно, приятно! / О вечно незабвенный час!» (ОМ).
Таким образом, представленные примеры, определяемые нами как риторические восклицания, характеризуются следующими признаками: незначительной длиной предложений, экспрессивностью грамматической структуры и особенностями коммуникативной направленности, заключающейся в отсутствии повествовательной установки, что и позволяет актуализировать эмоциональную составляющую. Усилению эмоциональности способствует также лексическое наполнение структур: это слова, семантика которых содержит положительный или отрицательный оценочный компонент при наименовании чувства (радость, горе), ситуации (невзгода), признака (страшной) и т. д. Похожий структурно-грамматический и лексический характер имеют отдельные конструкции без междометия: «Ужасный вид! <они сразились!>», «Конец благо-получну бегу!».
ВЫВОДЫ
Обновленные оды И. И. Дмитриева, совмещающие в себе повествовательную установку и сентиментально-элегические интонации, в основе своей сохраняют важные структурные элементы высокой лирической поэзии. Тематические и жанровые особенности рассмотренных текстов определяют обязательное использование в их синтаксической организации вопросительных и восклицательные предложений.
Структурно-типологическое разнообразие характерно как для одних, так и для других предложений, однако в количественном отношении восклицательные конструкции доминируют. Отдельные примеры свидетельствуют о тесном взаимодействии восклицательной окраски и вопросительной интонации. Это проявляется в лексико-типологическом сходстве конструкций, графически сопровождаемых разными знаками (первые два примера), а также в использовании восклицательного знака вну- три вопросительного предложения: «Но что?...» (Ермак), «Но что!» (Стихи Павлу Первому), «О! кто тебе в величьи равен?» (Стихи на присоединение). Взаимосвязь анализируемых конструкций отражается также в уже рассмотренных вопросно-ответных комплексах, когда в качестве ответа выступает эмоционально окрашенное предложение.
Наблюдения за одами И. И. Дмитриева позволили выделить собственно риторические вопросы и риторические восклицания, служащие выразительными ораторскими приемами. Функции большей части вопросительных предложений заключаются в организации вопросно-ответной композиции в построении лирического сюжета. Активность восклицательных конструкций в одах И. Дмитриева можно объяснить «эстетикой чувств» (Г. П. Макогоненко), которой руководствовался поэт при описании важных событий. Восклицательный знак часто выступает как дополнительное графическое средство для актуализации эмоциональной тональности определенной структурно-смысловой части предложения.
Результаты проведенного исследования могут быть учтены в дальнейшем системном изучении тропеических средств и фигур поэтической речи.
Список литературы Вопросительные и восклицательные предложения в одах И. И. Дмитриева: структурно-типологический и риторический аспекты
- Алексеева Н . Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII-XVIII веках. СПб.: Наука, 2005. 369 с.
- Виноградов В. В . Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева // Виноградов В. В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М.: Наука, 1990. С. 24-147.
- Краковяк А. С. Похвальная ода и высокая инвектива: риторические приемы и художественная картина мира // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 11 (117). С. 38-43.
- Матвеев Е. М. Оды В. П. Петрова и оды М. В. Ломоносова: словесная и ритмико-синтаксическая формульность // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 3. С. 354-366. DOI: 10.21638/spbu09.2018.303
- Петров А. В., Колесникова О. Ю. Баллады И. И. Дмитриева: жанровые стратегии и тактики // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 1. С. 74-81. DOI: 10.15393/ uchz.art.2021.570
- Пумпянский Л. В . К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 30-196.
- Рожкова А. В. Типология односоставных и двусоставных вопросительных предложений и их роль в произведениях И. И. Дмитриева // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 1 (178). С. 85-89.
- Травников С. Н., Ольшевская Л. А. «Лавровы вьются там венцы.» (Поэтика «Оды на взятие Хотина» М. В. Ломоносова) // Литературоведческий журнал. 2011. № 29. С. 213-235.
- Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 227-252.
- Шапир М. И. Ритм и синтаксис ломоносовской оды (К исторической грамматике русского стиха) // Шапир М. И. Universum versus: Язык - стих - смысл в русской поэзии XVIII-XX веков. М.: Языки русской культуры, 2000. Кн. 1. С. 161-187.
- Штулайтерова А. Восклицательный знак - стилистический и психологический сигнал в стиле художественной литературы // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2. С. 218-224.