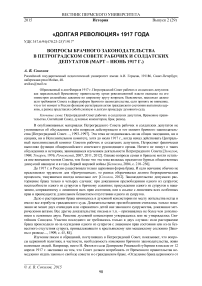Вопросы брачного законодательства в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов (март - июнь 1917 г.)
Автор: Соколов А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: "Долгая Революция" 1917 года
Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Образованный в дни Февраля 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов как параллельный Временному правительству орган революционной власти оказывал на его министров сильнейшее давление по широкому кругу вопросов. Выясняется, насколько далеко шли требования Совета в сфере реформ брачного законодательства, если принять во внимание, что в тот момент в России функцию регистрации актов гражданского состояния выполняла церковь, а развод представлял собой сложную и долгую процедуру духовного суда.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, временное правительство, святейший синод, духовные консистории, брак, развод
Короткий адрес: https://sciup.org/147203644
IDR: 147203644 | УДК: 347.6:94(470.23-25)"1917"
Текст научной статьи Вопросы брачного законодательства в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов (март - июнь 1917 г.)
В опубликованных материалах Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов не упоминается об обсуждении в нём вопросов действующего в тот момент брачного законодательства [Петроградский Совет…, 1993–1997]. Эта тема не поднималась ни на общих заседаниях, ни в секциях, ни в Исполнительном комитете, хотя до июля 1917 г., когда начал действовать Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов, Петросовет фактически выполнял функции общероссийского советского руководящего органа. Ничего не пишут о таких обсуждениях и историки, занимавшиеся изучением деятельности Петроградского Совета [ Злоказов , 1969; Токарев , 1976; Рачковский , 2007, 2011, 2012]. Однако вопросы семьи и брака не могли остаться вне внимания членов Совета, тем более что эта тема являлась предметом бурных общественных дискуссий накануне и в годы Первой мировой войны [ Белякова , 2004, с. 210–256].
До 1917 г. в России существовала только церковная форма брака. И если венчание обычно не представляло трудности для «брачующихся», то развод оборачивался долгим бюрократическим процессом, тянувшимся иногда несколько лет [ Соколов , 2012]. Законодательство допускало расторжение брака только в четырех случаях: при доказанном прелюбодеянии одного из супругов; неспособности одного из супругов к брачному сожитию; присуждении одного из супругов к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния, или к ссылке с лишением всех особенных прав и преимуществ; длительном безвестном отсутствиии одного из супругов.
Дело о расторжении брака начиналось в духовной консистории по месту жительства истца и имело все атрибуты гражданского суда. Доказательствами прелюбодеяния считались только показания не менее двух очевидцев или «прижитие» детей вне законного супружества, доказанное метрическими актами. Все другие доказательства: письма и т.п. – признавались не более чем дополнением к основным двум. Решение духовной консистории утверждалось или не утверждалось Святейшим Синодом. Участия последнего не требовалось только в двух случаях: если расторжение брака происходило из-за осуждения одного из супругов с лишением прав состояния или из-за безвестного отсутствия супруга, принадлежавшего к крестьянскому или мещанскому сословию [Законы о разводе…, 1909, с. 45, 84].
Изучение писем и обращений, поступивших в Петроградский Совет, показывает, что вопросы церковной политики, в частности, необходимость изменения брачного законодательства, живо волновали людей. Например, некто Н. Фатов из села Дмитриево Рязанской губернии в письме от 12 апреля 1917 г. настаивал на том, что Совет должен потребовать от Временного правительства немедленно издать законы о свободе совести и о гражданском браке. «Отделение брака церковного от
брака юридического – этот вопрос необычайно важен в рабочем и солдатском быту при назначении, например, пособий жёнам etc., – писал Фатов. – Это нельзя откладывать до Учредительного Собрания» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д.284. Л. 55–59 об.]. Вместе с тем большая часть заявлений не требовала введения светского брака, речь шла лишь об облегчении имеющейся процедуры развода. Так, 7 апреля 1917 г. в Петросовет направил письмо солдат 64-го Сибирского полка Милютин с просьбой «сделать постановление относительно расторжения брака так как большая масса есть таких солдаток которые совершенно оставили своих супругов и живут с другими, то тут само собой разумеется что когда воротится любой из нас домой то наверное ему непонравятся те дурные проступки которые совершала любого из нас жена…» Солдат добавлял, что «этот закон старый неправильный потому что очень трудно добиться так чтобы брак был расторгнут» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 1 – 1 об.]. В письме от 4 мая солдат 37-го пехотного запасного полка И. Г. Кравченко заявлял: «Товарищи! Прошу выработать закон о свободном расторжении бракосочетания. Несколько сот лет мучились десятки тысяч людей разоряя хозяйство именно потому, что не имели свободного расторжения брака». Солдат сообщил, что с женой он прожил всего 3 месяца, после чего она ушла. Крестьянское хозяйство Кравченко без хозяйки разорилось, а он «мучается уже 17 лет» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 9а]. В документах Петроградского Совета имеется ещё несколько десятков подобных обращений [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 2, 12–13, 14 об., 15–25, 37 – 37 об., 38, 42, 46].
Все эти письма не обсуждались на заседаниях Петросовета, а сразу направлялись в его юридический отдел. И, как показывают ответы просителям, он не только не выдвигал никаких предложений по изменению брачного законодательства, но и, наоборот, призывал действовать в рамках существующих процедур. Например, на поступившем 17 апреля 1917 г. прошении о разводе с женой запасного матроса 14-го флотского экипажа имеется следующая резолюция карандашом: «объяснить просителю, с ходатайством о разводе нужно обращаться в консисторию по месту жительства мужа. Причиной для развода не может быть одно желание, а прелюбодеяние или другие, указанные в законе причины» [ ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 3 об.]. Юридический отдел Петросо-вета 21 апреля официально ответил гражданину Павлу Войлокову: «с ходатайством о разводе надо обращаться в консисторию по месту жительства мужа. Поводом к разводу служит главным образом прелюбодеяние и другие причины. Во всяком случае простое нежелание жить с супругом не может быть причиной для развода» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 1]. Подобные ответы Петроградский Совет рассылал весной 1917 г. и другим адресатам [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 4, 36].
В ряде случаев ответы Петроградского Совета представляли собой краткую юридическую консультацию. Так, 10 мая 1917 г. некоему Ф. И. Хлюстову сообщили, что ему следует обратиться в духовную консисторию с прошением о разводе, «указав как самый факт о неверности жены, так и могущих это доказать свидетелей, приложив выписку о браке и те документы, которые вы найдете нужными для дела. Прошение и все прилагаемые бумаги должны быть обязательно в двух экземплярах и оплачено гербовым сбором». Подобные рекомендации 16 мая дали солдату Степанову, предложив обратиться в свою духовную консисторию и добавив, что «прошение подается в 2-х экземплярах, к прошению необходимо приложить свидетельство о бракосочетании, указать свидетелей, внести пошлины и оплатить прошение гербовым сбором». Солдату С. Балашоку 25 мая юридический отдел посоветовал обратиться в Киевскую духовную консисторию с прошением о разводе, «указав всех свидетелей и представив метрическую выпись о браке. Все бумаги, в том числе прошение, должны быть в двух экземплярах и оплачены гербовым сбором» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 9, 11, 28].
Таким образом, Петроградский Совет весной–летом 1917 г. не только не настаивал на немедленной передаче функций регистрации брака и развода от церкви к государственным органам, но и призывал придерживаться установленных процедур церковного суда. Можно указать несколько причин такой позиции. Во-первых, проблема реформы брачного законодательства не стояла настолько остро, как, например, вопросы о власти, о мире и о земле. Не только меньшевики и эсеры, но и большевики не выдвигали весной–летом 1917 г. требований немедленной отмены церковного брака. Впоследствии большевистские деятели, конечно же, не преминули раскритиковать «соглашателей» за их медлительность. Например, заместитель наркома юстиции П. И. Стучка писал, что «”русская юридическая мысль”, став у власти в феврале 1917 года, до ноября 1917 года оставалась при – консисторском способе развода (веревочка!)» [Стучка, 1925, с. 146]. Однако и сами большевики объявили о введении светских брака и развода спустя почти два месяца после Октябрьского вооруженного восстания, что для революционного 1917 г. являлось достаточно долгим сроком.
Второй причиной равнодушия Петроградского Совета к брачным вопросам являлась законотворческая деятельность Временного правительства в этом направлении. Так, «гражданину Ивану Ещенко» юридический отдел Совета прямо сообщил, что «ныне разрабатывается законопроект, расширяющий поводы и основания развода» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 3]. Святейший Синод действительно принял 29 апреля – 1 мая 1917 г. постановление «Об изменениях в делопроизводстве духовных консисторий о расторжении браков», однако перечень поводов к разводу в нем расширен не был. Главным нововведением являлись отмена утверждения Синодом решений по брачным делам и допущение к судопроизводству в духовных консисториях неправославных адвокатов. Синод остался во всех случаях лишь кассационным органом [Определение Святейшего Синода от 29 апреля – 1 мая 1917 года..., с. 110]. Вместе с тем с апреля 1917 г. Министерство внутренних дел Временного правительства готовило ещё один документ, принятый 14 июля под названием «Закон о свободе совести». Кроме снятия всех барьеров при перемене веры он вводил так называемое «вневероисповедное состояние», для которого предусматривалась светская метрикация. На том же заседании Временного правительства заместитель премьер-министра Н.В. Некрасов попросил министра юстиции «принять меры к ускорению выработки законопроекта о введении гражданского брака» [Журналы заседаний Временного правительства, 2004, Т. 3, с. 94–95, 101], но издать соответствующее постановление Временное правительство не успело. Необходимо оговориться, что закон от 14 июля 1917 года предоставлял возможность регистрации светского брака только тем, кто объявил бы о своём «вневероисповедном состоянии». Но в 1917 г. о таких заявлениях неизвестно: в силу разных причин люди были не готовы отказаться от церковного венчания и официально объявить себя неверующими.
Главная же причина медлительности Петроградского Совета, возможно, состояла в том, что проблема брака являлась составной частью вопроса об отношении государства и церкви в России. Временное правительство не стало делать никаких резких шагов в этом направлении, отложив обсуждение до Учредительного собрания. С этой позицией de facto солидаризировались меньшевики и эсеры, составлявшие весной–летом 1917 г. большинство в Петроградском Совете, а с мая неизменно входившие в состав коалиционных министерств.
В итоге Петроградский Совет самоустранился от инициирования реформы брачного законодательства, что, впрочем, не мешало ему решительно действовать в тех направлениях, которые он считал сферой своей компетенции или в которых на него оказывалось особенно сильное давление со стороны низовых организаций. Например, в постановлении Петросовета от 28 апреля 1917 г. о порядке назначения пайков солдатским семьям кроме увеличения самой суммы пособия предусматривалась выдача денег не только законным, но и гражданским жёнам военнослужащих, их детям до 16 лет – брачным и внебрачным, а также пасынкам и падчерицам. При этом всё же заявлялось, что «гражданская жена не получает пайка, если у призванного есть жена, с которой не прекращалась семейная жизнь» [Петроградский Совет..., 1995, т. 2, с. 422–423]. Исполнительный комитет направил ходатайство о немедленном обнародовании новых правил во Временное правительство, и уже 10 мая их одобрило Совещание товарищей министров. В соответствии с этим 22 июня 1917 г. правительство приняло постановление о распространении на внебрачных жён, детей, матерей, братьев и сестер, а также на приёмных детей призванных солдат правил о призрении солдатских семейств. Обязательным условием назначения пайка внебрачным родственникам являлось содержание их солдатом до его призыва. Паёк мог быть предоставлен гражданской жене также в случае беременности или наличия детей. Оговаривалось, что при наличии законной семьи внебрачная семья правом на паёк не пользуется [Журналы заседаний Временного правительства..., 2002, т. 2, с. 334–335]. Последнее обстоятельство имело немаловажное значение для экономии государственных средств и в то же время отсылало к действующим законам о браке: получить паек внебрачной семье можно было только после церковного развода солдата с его законной женой. Постановление обладало и обратным эффектом: 10 мая 1917 г. юридический отдел Петроградского Совета известил гражданина Алексея Громова о том, что «прекращение выдачи пособия законной жене может быть лишь при условии развода» (т.е. соответствующего решения духовной консистории. – А.С. ) [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 7].
Поддерживая существующие законы, Петроградский Совет, тем не менее, не отказывался от роли «морального регулятора» внутрисемейных отношений, пропагандируя новые ценности социалистического общежития. И, конечно, при этом основное внимание он уделял поведению рабочих и солдат. Так, 17 мая 1917 г. в Совет обратилась жительница деревни Асеково Смоленской губернии А. С. Архипова, сообщившая, что её муж, с которым они состояли в браке 15 лет и имели 4 детей, «перешёл в секту иоаннитов» и с февраля 1917 г. бросил её с детьми, а также свою 75-летнюю мать без средств к существованию. Муж работал на Ревельском судостроительном заводе Русско-Балтийского судостроительного и механического общества, получал неплохую зарплату (400 рублей в месяц) и пользовался семейной квартирой, в то время как его домочадцы остались в деревне. Жена просила принудить супруга «исполнять обязанности мужа, отца и сына по отношению к своей семье и своей матери старухе» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 721. Л. 65–66]. Юридический отдел 23 мая переправил прошение Архиповой в комитет Русско-Балтийского судостроительного и механического общества с просьбой «оказать товарищеское воздействие на Архипова – мужа просительницы, предложив последнему выдавать жене определенное месячное содержание. Размер этого содержания можно определить в зависимости от заработка Архипова». Юридический отдел добавлял, что надеется на удовлетворение ходатайства просительницы, «исходя из того, что представители пролетарских организаций не могут допускать таких действий со стороны товарищей. Надеемся, что Ваш моральный авторитет достигнет желательных результатов» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 721. Л. 68]. При похожих обстоятельствах 18 мая юридический отдел обратился в комитет завода «Новый Лесснер» с просьбой оказать «товарищеское воздействие» на мужа некоей гражданки Коппель, «побудив последнего выдавать жене определенную сумму ежемесячно» [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 13].
В Петросовет с просьбой о помощи 26 мая обратилась Татьяна Бенедиктова из села Городок Волынской губернии. Она рассказала, что в 1916 г. у них стояло интендантство 39-го армейского корпуса и за ней ухаживал писарь Н. Ф. Дёмин. Он обещал жениться, Бенедиктова забеременела от него, после чего «жених» бросил возлюбленную одну с ребёнком [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 721. Л. 64]. Юридический отдел 1 июня 1917 г. переправил отношение Бенедиктовой в интендантство 39-го армейского корпуса с просьбой передать его тому комитету, которому подчинён писарь Дёмин. Отдел проинформировал, что он «не считает себя вправе вмешиваться в частную, интимную сферу жизни отдельных граждан, но всё же полагает, что товарищи Дёмина могут оказать на последнего моральное воздействие. Наивно-трогательное прошение девушки-матери, не желавшей погубить душу ребёнка, как просил об этом преступно-равнодушный отец – побуждает нас обратиться к товарищам, дабы они всей силой своего авторитета потребовали от Дёмина исполнения своего отцовского долга». Юридический отдел высказал уверенность в том, что Дёмин должен содержать мать и ребёнка, высылая им часть дохода [ГАРФ. Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 722. Л. 37].
Таким образом, несмотря на значительное количество обращений от рядовых граждан, весной–летом 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов не выдвинул никаких предложений об изменении брачного законодательства. Просителям по делам развода предлагалось по-прежнему обращаться в духовные консистории. Поддерживая принцип сохранения власти в руках Временного правительства до созыва Учредительного собрания, меньшевики и эсеры предоставили проведение реформ «законным» органам: «буржуазным» министерствам и Святейшему Синоду. А относительная второстепенность вопроса не ускоряла его решение. В результате только после Октябрьского переворота, 16 декабря 1917 г., состоявший из большевиков и левых эсеров Совет Народных Комиссаров принял декреты «О расторжении брака» и «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния», предусматривавшие светскую метрикацию [Протоколы заседаний…, 2006, с. 118]. Постановления о разводе стали приниматься народными судами лишь с января 1918 г., а первый в России Отдел записи актов гражданского состояния открылся в Петрограде 14 (1) февраля 1918 г. [К сведению граждан г. Петрограда…, 1918].
Список литературы Вопросы брачного законодательства в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов (март - июнь 1917 г.)
- Белякова Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. Дискуссии в Православной российской церкви начала XX в. Поместный собор 1917-1918 гг. и предсоборный период. М., 2004.
- Журналы заседаний Временного правительства: Март-октябрь 1917 г.: в 4 т. Т. 2. Май-июнь 1917 101 г. М., 2002; Т. 3. Июль-август 1917 г. М., 2004
- Законы о разводе (расторжении браков) православного и неправославных исповеданий и о раздельном жительстве супругов с разъяснениями Правительствующего Сената и циркулярными и сепаратными указами Святейшего Синода/сост. В. Максимов. М., 1909
- Злоказов Г. И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в период мирного развития революции (февраль-июнь 1917 г.). М., 1969
- К сведению граждан г. Петрограда//Изв. Исполнительного Комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1918. 14 (1) февраля.
- Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.: протоколы и материалы. 27 февраля -25 октября 1917 г.: в 4 т. СПб, 1993-1997
- Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров РСФСР. Ноябрь 1917 -март 1918 г. М., 2006.
- Рачковский В. А. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в феврале-марте 1917 г. в воспоминаниях социалистов (ч. 1)//Новейшая история России. 2011. № 2
- Рачковский В. А. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в феврале-марте 1917 г. в воспоминаниях социалистов (ч. 2)//Новейшая история России. 2012. № 1
- Соколов А. В. Дело обер-прокурора Синода Н. П. Раева в 1917 г.//Изв. Рос. гос. пед. ун-та имени А.И. Герцена. 2012. № 151
- Стучка П. И. Советское право в «белом» освещении//Революция права. М., 1925. Сб. I
- Токарев Ю. С. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в марте-апреле 1917 г. Л., 1976
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р6978. Оп. 1. Д. 284, 721, 722
- Определение Святейшего Синода от 29 апреля -1 мая 1917 г. №2547 «Об изменениях в делопроизводстве духовных консисторий о расторжении браков»//Церковные ведомости. 1917. № 18-19. С. 107-111
- Рачковский В. А. Начальный этап изучения Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (Совет в литературе 1917 -1920 гг.)//Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 2007. Сер. 2