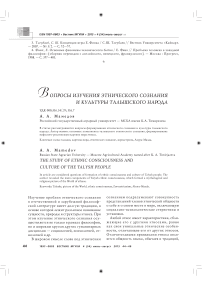Вопросы изучения этнического сознания и культуры талышского народа
Автор: Мамедов Азер Агабала Оглы
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культура как этап эволюции биологической жизни
Статья в выпуске: 4 (54), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы формирования этнического сознания и культуры талышского народа. Автор выявил основные компоненты талышского этнического сознания, формировавшие мифолого-религиозную картину мира этноса.
Талыши, картина мира, этническое сознание, зороастризм, ахура-мазда
Короткий адрес: https://sciup.org/14489570
IDR: 14489570 | УДК: 008:316.34/.35;
Текст научной статьи Вопросы изучения этнического сознания и культуры талышского народа
Изучение проблем этнического сознания в отечественной и зарубежной философской литературе имеет долгую традицию, в основе которой лежит различное понимание сущности, природы и структуры этноса. При этом изучение этнического сознания осуществляется не только в рамках философии, но и широким кругом других гуманитарных дисциплин — социологией, психологией, этнологией и др.
В широком смысле слова под этническим
1997—0803 ВЕСТНИК МГУКИ 4 (54) июль—август 2013 44—49
сознанием подразумевают совокупность представлений членов этнической общности о себе и о своем месте в мире, включающую социально-психологические стереотипы и установки.
Любой этнос имеет характеристики, сближающие его с другими этносами, равно как свои уникальные этнические особенности, отличающие его от других этносов. Отличительными признаками этноса являются общность языка, обычаев и традиций, территории, нравов и т.д.
Этнос образуется на определенной территории, с определенным укладом экономической жизни. При этом особое значение имеет компактность расселения этноса, способствующая достижению определенного уровня культурного и экономического развития, развития производительных сил.
Предметом нашего рассмотрения является талышский этнос, испокон веков компактно живущий на юге Азербайджанской республики и на севере Ирана. Талыши, проживающие в Азербайджанской республике, в подавляющем большинстве своем исповедуют ислам шиитского толка, в отличие от своих южных собратьев, являющихся, в основном, суннитами.
Выяснение этногенеза талышей связано с определенными трудностями; очень скудна имеющаяся фактологическая база, которую можно компенсировать материалами языка, топономии, мифологии, исторических преданий и т.д.
Топоним «талыш» известен из средневековых арабских источников, в частности, встречается у Баладзури, Якут, Аль-Табари, обозначавших талышей ал-тайласан . Аль-Табари пишет: «В горах вокруг Азербайджана жили такие народы, как гелы и ал-тайласан , которые не подчинились арабам и были свободны и независимы» [3, с. 10]. В настоящей своей форме этноним «талыш» впервые встречается в армянской версии истории Александра Македонского, составленной в XVI веке и переведенной с греческого источника V века: «И рассказал он, что он беженец с ворот Каспийских, недалеко от страны Талыш в провинции Гилан» [3, с. 10].
Еще античные авторы, говоря об ареале обитания прикаспийских племен, упоминали наряду с гелами, мардами (амардами) также кадусиев. У Аль-Табари, как мы отметили выше, вместе с гелами упомянуты «тай-ласаны». Если гелы — это сегодняшние ги-лянцы, то вполне логично считать кадусиев предками современных талышей, тем более что в указанном ареале обитания, окружен- ным с одной стороны морем, а с другой — горами, называемыми Талышскими, не было крупных этнических перемещений: «…этот край миновали как аравитяне, в своем стремительном набеге на Дагестан, так и дикие орды Средней Азии, вторгавшиеся неоднократно в Иран и восточную Европу» [10, с. 1]. Вопрос только в том, являются ли кадусии, равно как и гелы, марды (амарды) и др. племена изначально иранцами или же относятся к автохтонным этносам Юго-Западного Прикаспия, иранизированным еще в античную эпоху? Известный иранист Г. Асатрян пришел к выводу об идентичности этнонимов «талыш» и «кадус» на основе схожести их суффиксальных форм [3, с. 11]. Еще раньше основатель яфетической теории Н. Я. Марр термин «талыш» связывал с названием племени Далеев (Dalaa), основу которого составляет префикс Ш [6, с. 20]. По его мнению, этническая природа талышей сильно связана многочисленными племенными и бытовыми особенностями с яфетическим миром Кавказа, а в самих талышах заложено достаточно элементов народнопсихологической тяги к Кавказу. В этом отношении советский яфетолог выступал непримиримым оппонентом другого исследователя этногенеза талышей — французского археолога Ж. де Моргана, причислявшего «пра-талышей, греков и индийцев к одному стволу», то есть к арийскому миру [12, с. 95]. Ж. де-Морган опирался, главным образом, на памятники материальной культуры, однако для этнической идентификации немаловажны также лингвистические данные. Хотя проникновение в прикаспийские области мидийского индоевропейского языка было явлением вторичным и обитавшие здесь племена сохраняли свои неиндоевропейские говоры [4, с. 92], тем не менее, все дошедшие до нас имена каспиев, кадусиев и других прикаспийских племен являются иранскими [1, с. 8—10].
По мнению И. Алиева, племена, обитавшие на юго-западном побережье Каспийского моря, скрывались под общим для них именем «каспиев» [1, с. 6].
Через кадусиев, каспиев, сыгравших, несомненно, важную роль в этногенезе талышей, последние приобщаются к мидийской культуре, являются носителями мидийских традиций. Труднодоступные субтропические леса позволили этим племенам сохранить мидийский язык, исчезнувший в Большой, или Великой, Мидии. Как итальянцы и греки являются носителями греко-римской античности, русские, украинцы и белорусы — носителями древнерусской культуры, так и талыши и родственные им этносы Азербайджана и Ирана являются носителями мидийской культуры. Как показал Ю. В. Бромлей, этносы бесследно не исчезают из всемирно-исторического процесса, а передают пришедшим им на смену свое историко-культурное и биогенетическое наследие [2, с. 283]. Древние автохтонные племена Юго-Западного Прикаспия хотя и сохранили определенную независимость от остальной Мидии, но духовно они уже принадлежали мидийской, а позже мидийско-атропатенской культуре. Немаловажную роль при этом сыграла утрата исконного неиранского языка. Утрата языка неминуемо влечет за собой утрату этнического самосознания. Появление у людей или этноса нового этнического самосознания означает их принадлежность уже новому этносу [2, с. 174].
Язык, несомненно, как средство передачи духовного опыта, духовных ценностей, имеет первостепенное значение для развития культуры. При этом язык, сформировавшийся в условиях богатых научных традиций и, соответственно, располагающий развитой терминологией, безусловно, имел определенное преимущество перед языком, лишенным указанных традиций.
Таким образом, лишившись своего исконного языка, автохтонные племена лишились и этнического самосознания, хотя этот процесс происходил достаточно долго — на протяжении нескольких столетий.
Следует отметить, что проблема этногенеза талышей и на сегодняшний день далека от разрешения; ранний пласт талышско- го этнического сознания, содержащий культ рощ и деревьев — с одной стороны, и поклонение божествам общеиранского пантеона — с другой, позволяют делать вывод о том, что доиранские элементы сознания не были поглощены целиком, не исчезли бесследно, наоборот, органически вписались в новую структуру сознания с культом природных стихий — огня, воды, земли.
Однако внедрение в талышское этническое сознание культа первичных природных стихий было явлением вторичным. Ему предшествовали более ранние «астральные» верования, дендролатрия, то есть почитание рощ, деревьев и т.д. Священные деревья обвешивались различной тканью, платками. Эти деревья связывали верующего талыша с сакральным миром [3, с. 85]. Такой тип верования помещал человека в особую реальность, пребывая в которой он приобретал уверенность в себе, устойчивость.
Ранние верования есть наиболее глубинный пласт этнического сознания. «В отличие от идей, — пишет Л. А. Микешина, — верования не являются плодом наших размышлений, мыслями или суждениями; они совпадают с самой реальностью как наш мир и бытие» [8, с. 252—253]. Вот почему верования присутствуют в этносе не в осознанной форме, а «как скрытое значимое его сознание». И верования талышей, в этом смысле, унаследованы как традиция, как вера их предков, являвшаяся в течение столетий своеобразной путеводной нитью в сложном лабиринте этнического развития.
Важную роль в процессе внедрения в этническое сознание талышей культа материальных стихий — огня, воды и земли сыграли маги.
Маги являлись одним из мидийских племен, о которых оставили сведения античные авторы, в частности Геродот. Влияние их на общественно-политическую, религиозную и культурную жизнь Мидии и Персии было очень велико. Вся жреческая деятельность, отправление культов и т.д. осуществлялись магами. Маги также являлись осведомителями и предсказателями сначала мидийских, а позже, после поглощения Мидии Персией, и персидских царей. Термин «магизм», возможно, происходит от имени магов. У греческих философов маги воспринимались как астрологи-звездочеты, к которым причисляли самого Заратуштру. Отсюда и известная греческая форма имени древнеиранского пророка как Зороастра.
Хотя И. Алиев отрицает непосредственную связь магов с термином «Муган» [1, с. 6], тем не менее, арабские источники средневековья, некоторые современные исследования, а также талышское название «Могон» («мог» — маг + «он» — форма множественного числа) дают пищу для размышлений. Как у магов, так и у каспиев существовал варварский обычай выставлять трупы умерших на съедение хищным животным и птицам. Относительно обычая магов Геродот пишет: «Что так поступают маги, я знаю доподлинно, потому что они делают это открыто» (I, с. 140). Об аналогичном обычае ка-спиев мы узнаем у Страбона: «Каспии, убив голодом лиц старше 70 лет, выносят их в пустынные места, при этом издали наблюдают, если покойник будет стащен птицами с носилок, то его считают блаженным, если же зверьми или собаками, то его менее почитают, если же никем, то его считают несчастным» (XI, глава 11). Как видно, маги смягчили обычай; у них человек умирает естественной, а не насильственной смертью. Этот обычай был позже взят на вооружение и зороастризмом, и Авеста предписывает указанный способ погребения. Интересно, если «колыбелью» зороастризма, как считает подавляющее большинство исследователей, является Средняя Азия, то как там осуществляли обряд погребения до знакомства с западномидийской традицией? В исследовательской литературе нет ответа на этот вопрос. Зато очевидно другое: есть все основания считать, что магизм, то есть религия магов, религия ахеменидов, не упоминавшая имени Заратуштры, и зороастризм, возникший в Средней Азии, имели единый источник — культ Мазды, бытовавший в Мидии и Урарту. По свидетельству совершившего по- ход в эти края в 714 году до н.э. ассирийского царя Саргона II, здесь почитался бог «Бага Мазда».
Внедренные магами в талышское этническое сознание зороастрийские культурные традиции не вытеснили ранние верования, наоборот, последние вошли в зороастрий-ский пласт этнического сознания, завершив, таким образом, первый этап религиозного синкретизма.
Ранний пласт талышского этнического сознания характеризовался эмоциональным отношением человека к миру. Видя всюду «шифры», знамения, древние талыши нарушение естественного мирового порядка связывали с вмешательством внешних сил. Например, во время затмения луны талы-ши били, стучали в медную посуду, стреляли из ружей, желая путем запугивания и шума освободить небесное тело из рук тех демонов, которыми она, будто бы, задержана. Согласно древним поверьям, демоны ловят луну и погружают ее в большое глубокое озеро, находящееся на «третьем небе»; они держат луну под водою; но, когда слышат шум и выстрелы людей, то, испугавшись, отпускают ее на волю. Древние талыши верили, что демоны очень боятся звука металлических предметов, а потому каждый человек, когда ему приходится идти в лес или отправляться куда-нибудь ночью, непременно берет с собой в дорогу нож или какую-нибудь медную вещь, чтобы избавиться от демонов, которые преследуют каждого человека с целью извести его.
Религия Заратуштры впервые внесла этическую силу; мифологический мир был лишен этого [9, с. 418—419]. В отличие от созерцательного взгляда на мир, характерного для древнегреческого мировоззрения, зороастризм внес этическое отношение к миру; здесь сама природа предстает в новом обличии, поскольку видится исключительно сквозь призму этической жизни.
Примечательно, что в новом обличии предстает не только растительный, но и животный мир, потому как моральная доктрина зороастризма предписывает гуманное обра-
щение с животными. В одной из Гат Авесты говорится о молении Души Быка (Геуш-Урван), сетующей на отсутствие должной защиты для домашнего скота. Образ Геуш-Урван сохранился в мифологической картине мира талышского этнического сознания в лице покровителя домашних животных Сиоголыша (Черного пастуха). Сиоголыш заботится о коровах, наказывает скотоводов, жестоко обращающихся с животными, и наоборот, поощряет тех, кто ласково относится к ним.
Интересно, что Сиоголыш выступает не только как покровитель животных, но и показывает себя как воспитатель: он усмиряет и наказывает непослушных и неблагодарных животных, запутывает их ноги веревкой так, что они падают на землю, а иногда поднимает их вверх и опускает рогами вниз так, что ноги животных остаются в воздухе.
Известные персонажи — Сиоголыш, Хыдыр Наби, Див, Джыртан и др., сохранились в талышской культуре благодаря фольклорной традиции, вытесненной, однако, на периферию из-за отсутствия письменности, преимущественно развиваясь в рамках сугубо талышского геоэтнического «заповедника».
Под «геоэтническим заповедником» подразумевается ограниченное с одной стороны узкой полосой Каспийского моря, а с другой — Талышскими горами пространство. Здесь на протяжении столетий все имело свою специфику, даже малярия, однажды проникнув в регион, не торопилась его покидать. Такое ограниченное пространство не позволяло бесписьменной талышской культуре воспеть собственных героев. Они вносились извне и «жили» до тех пор, пока новая волна не вытесняла их, заменив новыми героями.
Древнейший язык талышей не был иранским, но был вытеснен последним еще в эпоху глубокой древности. Вот что пишет И. М. Дьяконов в своей «Истории Мидии»: «Здесь, в густых субтропических лесах, жили племена главным образом охотничьи, обычно более отсталые, чем мидийские и албанские.
Здесь в то время и позже обычно сохранялись остатки языков, исчезнувших в собственно Мидии и в Албании… Еще и в настоящее время таты, талыши, гилянцы и ма-зандеранцы говорят на диалектах, представляющих остатки индоевропейского языка, первоначально бывшего языком восточной Мидии» [4, с. 92].
Бесписьменная культура весьма уязвима также в лексическом отношении. Ведь письменная культура имеет возможность «вернуть» слова, вышедшие из употребления. Например, в СССР, а позже и в России наземный общественный транспорт обходился без кондукторов, а из обращения вышла копейка. Их «возвращение» было необходимо не только экономически, но и культурно; в широком смысле слова речь идет о сохранении богатства русского языка, итак испытывающего в последние годы сильное давление со стороны английского языка. Последнее обстоятельство, между прочим, вполне обоснованно вызывает тревогу в среде научной общественности, лингвистов, регулярно выступающих в печати по данному вопросу.
Всех этих возможностей лишена бесписьменная культура; из нее слова уходят безвозвратно, равно как и связанная с ними устная культурная традиция. Все это усугубляется отсутствием возможности широкой общественной дискуссии, разворачиваемой на телевидении и в других средствах массовой информации, не только в силу отсутствия таковых, но прежде всего потому, что само понятие общественности имеет смысловую нагрузку, связанную как раз с письменной культурой.
Пришлый язык приносит и все компоненты культуры — народное творчество, литературу, героические персонажи, образы и т.д. Образ национального героя складывается в боях, победоносных битвах. Но та-лыши, в силу специфических условий проживания, не вели затяжных войн за Родину. Понятие Родины в широком смысле слова в талышском этническом сознании отсутствует. Талышское этническое сознание имеет религиозные границы; для него религиозная принадлежность куда важнее, нежели этническая идентичность.
Талыши всегда жили в обособлении от других народов, вдали от путей проникновения культурных завоеваний. Эта обособленность носила, как мы уже говорили, и «пространственный» характер. Ограниченное пространство и отсутствие письменной культурной традиции не позволили этносу иметь собственных национальных героев, создаваемых «пространственным» этническим сознанием. Вот почему общеиранские герои, вожди — Заратуштра, Рустам, Бабек и др., воспринимаются талышским этническим сознанием как собственные герои.
Сказанное в равной мере относится так- же к авестийскому языку и зороастризму в целом. Не случайно Ж. Дармстетер называл талышский язык единственным языком, сохранившим основные черты древнего авестийского языка. Этот язык, первоначально возникший в Восточном Иране, со всем богослужебным багажом был позже занесен в талышский регион и использовался магами, причем даже тогда, когда в остальных частях Ирана постепенно исчезал.
Внесенная извне зороастрийская культурная традиция пускает глубокие корни; ее может вытеснить только новая, уже исламская, но не полностью. Более того, ислам не только не смог полностью вытеснить зороастризм, а, наоборот, сам приспособился к нему.