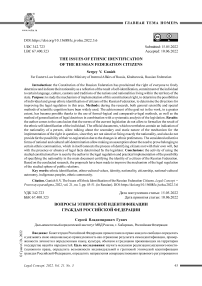Вопросы этнической идентификации граждан Российской Федерации
Автор: Гунич Сергей Владимирович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: Конституция Российской Федерации провозгласила право каждого свободно определять и указывать свою национальную принадлежность как отражение результата самоидентификации, приверженности личности к определенным языку, культуре, обычаям и традициям проживающих на территории государства наций и народностей. Цель исследования: изучить механизм реализации указанного конституционного права, определить возможности индивидуальной и групповой этнической идентификации граждан Российской Федерации, определить направления совершенствования правового регулирования в данной сфере. Методы исследования: при проведении исследования широко применялись как общенаучные, так и специальные методы научного познания. Достижение поставленной в работе цели в большей степени стало возможным благодаря использованию формально-логического и сравнительно-правового методов, а также метода обобщения правовых доктрин в сочетании с системным анализом законодательства. Результаты исследования: автор приходит к выводу, что нормы действующего законодательства не позволяют формализовать результат этнической самоидентификации личности. Официальные документы, содержащие указание на национальность лица, позволяют говорить о второстепенности и статичности механизма реализации рассматриваемого права, поскольку не нацелены на фиксацию именно национальной принадлежности, а также не предусматривают возможности их переоформления ввиду изменения этнических предпочтений. Рассмотренные коллективные формы национально-культурного самоопределения позволяют высказать предположение о необходимости доказывания сопричастности к определенным этническим общностям, что само по себе связывает процесс идентификации граждан не с собственным волеизъявлением, а с наличием либо отсутствием определенных законодателем юридических фактов. Выводы: активность использования исследуемого конституционного права видится автору в правовой регламентации и практической реализации возможности указания национальности в основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации. На основании проведенного исследования высказаны предложения по совершенствованию механизма правового регулирования исследуемой сферы общественных отношений.
Этническая идентификация, этнокультурные ценности, самобытность, национальность, гражданство, национально-культурная автономия, коренные малочисленные народы, этническая общность
Короткий адрес: https://sciup.org/149141607
IDR: 149141607 | УДК: 342.723 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2022.3.6
Текст научной статьи Вопросы этнической идентификации граждан Российской Федерации
DOI:
Вопросы идентичности личности, осознание принадлежности самого себя к определенной социальной группе имеют не только культурологическую, но и явную правовую окраску. Выступая в качестве ценностно-ориентационной, психологической в своей первооснове категорией, самоидентификация членов общества по признакам общности языка, культуры, традиций и иных смыслообразую- щих составляющих способствует сохранению единства государства в периоды нестабильного функционирования его внутренних систем, обострения конфронтационного взаимодействия с другими странами. Она же выступает тем необходимым элементом, вокруг которого выстраивается взаимодействие государственно-властных структур и индивида по поводу обеспечения принадлежащих ему прав и свобод.
Этническая идентификация граждан Российской Федерации актуализируется на фоне переосмысления так называемым «прогрессивным сообществом» традиционных ценностей, становится ориентиром развития изменяющегося под воздействием западноевропейской культуры современного Человека. Сегодня, в условиях патриотического возрождения российского общества, все большее количество его членов стремятся сохранить свою самобытность, отгородиться от аморального влияния чуждых для преемственного развития многонационального государства псевдоценностей. Не случайно соответствующие идеалы получили закрепление в конституции страны, а в последние годы еще и возведены в статус национальных ориентиров ее стратегического развития [8; 9].
Формы реализации права на этническую идентификацию
В правовом аспекте описываемое явление показывает себя в признании государством возможностей каждого человека отождествлять себя с определенными социальными группами, в создании условий для их самобытного функционирования, а также в обеспечении охраны и защиты их самостийности. Очевидно, что такие наиболее значимые для всего общества ценности получают закрепление и в конституционном акте государства, составляя в наиболее общем виде право на этническую идентификацию граждан. Реализация же этого права, по замечанию Е.А. Гу-наева, происходит в двух основных формах: индивидуальной (самоидентификация) и коллективной (право идентифицировать себя как определенное этническое сообщество) [2, с. 82]. Ожидаемо, что государство должно создавать соответствующие условия для беспрепятственного осуществления этого и подобного им прав.
Применительно к возможности индивидуальной этнической самоидентификации отметим, что она выражена посредством конституционного закрепления права каждого на определение и указание своей национальной принадлежности. Однако приходится признать, что практический механизм реализации этого права в Российской Федерации отсутствует. Так, проведя соответствующее научное исследование, Ю.М. Коцубин приходит к выводу, что «на сегодняшний день совершеннолетние граждане имеют возможность указать свою национальность в официальных документах только в случаях их вступления в брак, расторжения брака, рождения у них ребенка либо перемены ими своего имени» [4, с. 21]. Ясно, что ни один из перечисленных актов гражданского состояния не нацелен на формализацию волеизъявления лица по вопросу определения и указания им своей этнической принадлежности. В особенности это проявляется в том, что законодатель не определил в качестве основания для внесения исправлений и изменений в подтверждающие их свидетельства случай перемены заинтересованным лицом своей национальности [10]. Подобное не может быть признано удовлетворитель- ным в правовом демократическом государстве, провозгласившем человека, его права и свободы в качестве высшей ценности.
По своей сути, декларирование данного права свелось лишь к необходимости соблюдения запрета на принуждение к определению и указанию своей национальной принадлежности. В случае же изъявления желания по собственной воле реализовать опосредованную им возможность субъект этого права неминуемо столкнется с полным отсутствием практического механизма воплощения ее в действительность. В такой ситуации следует согласиться с выводом Н.А. Зай-нитдинова о том, что наиболее убедительным аргументом существования в правовой системе России подобного права будет выступать возможность указания национальности в основном документе, удостоверяющем личность, – паспорте гражданина Российской Федерации [3, с. 53].
Немаловажным аспектом реализации рассматриваемого права выступает также признаваемый государством факт самостоятельного определения личностью своей национальной принадлежности вне зависимости от национальности родителей, иных родственников, а также любых других фактических обстоятельств. Как следствие, в Конституции Российской Федерации нашли отражение такие опосредованные сопутствующими потребностями блага индивида, как: право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества; свобода литературного и художественного творчества; право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и т. п. Тем не менее в правоприменительной практике подобный подход не получил должного применения, что в определенной части будет продемонстрировано далее.
Коллективная реализация права на этническую идентификацию в наиболее общей форме проявляет себя применительно к категории соотечественников. Она носит конклюдентный характер в отношении граждан Российской Федерации, поскольку юридически институт гражданства сам по себе соотнесен с принципом непрерывности (континуитета) российской государственности. Фактически же именно граждане России непосредственно вовлечены в процесс формирования и сохранения этнокультурных ценностей. В отличие от них, признание своей принадлежности к соотечественникам в качестве акта самоидентификации иными, указанными в соответствующем законе категориями лиц должно подкрепляться активной общественной, либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, развитию русской культуры, иными свидетельствами свободного выбора в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией [12].
Думается, что столь размытая законодательная формулировка не позволяет с точностью установить круг субъектов правоотношений, связанных, например, с поддержкой соотечественников, находящихся за рубежом. Если предположить, что акцент выделенного направления государственной политики смещается в сторону граждан Российской Федерации, то принятие подобного нормативного правового акта представляется излишним, поскольку данной категории лиц конституционно гарантируется безусловное покровительство и защита со стороны государства за пределами его границ. Очевидно, что отмеченный законодательный акт в большей степени адресован лицам, не имеющим отечественного гражданства. В таком случае следует согласиться с В.А. Герасимовой, которая отмечает декларативность приводимого в данном законе множества положений, что «блокирует механизм их правовой реализации», а самому исследуемому термину приписывает «в большей степени не юридическое, а политическое значение» [1, с. 905].
Все это указывает на несовершенство механизма этнической идентификации соотечественников ввиду отсутствия конкретного механизма формализации их волеизъявления. Не добавляет ясности в решение данного вопроса и предусмотренная возможность регистрироваться в общественных объединениях соотечественников в соответствии с их уставами и получать документы (свидетельства), подтверждающие членство в таких объединениях. Подобное способно навести на мысль, что государство делегирует полномочия по ведению учета и признанию иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве соотечественников на руководящие органы общественных объединений. Они же, в свою очередь, способны преследовать собственные цели и формулировать не предусмотренные законодательством условия присвоения соответствующего статуса.
Национально-культурная автономия и коренные малочисленные народы в механизме отождествления индивида с этнической общностью
Более конкретизированными способами коллективной идентификации граждан выступают право на присоединение к национальнокультурной автономии и возможность признания индивида в качестве представителя коренных малочисленных народов. Что касается первого из них, то в этом случае проявляются уже перечисленные недостатки, присущие общественным объединениям, поскольку именно от их решения зависит результат отнесения гражданина к определенной этнической общности [11]. Кроме того, реализация желания идентифицировать себя с представителями национального меньшинства, зарегистрировавшими рассматриваемую форму национально-культурного самоопределения и не желающими расширять свой круг за счет других членов, сталкивается на практике с запретом создания нескольких национальнокультурных автономий одной этнической принадлежности. О.В. Романовская отмечает в этой связи, что такой подход «нарушает принцип равенства общественных объединений перед законом, ограничивает свободу создания на основе полной добровольности любых общественных объединений и свободу их деятельности» [7, с. 18]. О свободе этнической идентификации в таких условиях также можно говорить весьма условно.
Что же касается реализации рассматриваемой процедуры применительно к коренным малочисленным народам, то прежде всего следует отметить, что учет их представителей ведет государство в лице уполномоченных органов посредством соответствующего списка, формируемого на основе сведений, представляемых лицами, относящимися к малочисленным народам, общинами малочисленных народов, а также органами публичной власти различного уровня [13]. Включение заинтересованного лица в такой список осуществляется в заявительном порядке с учетом предоставления установленных законом документов. Основным среди таковых, без сомнения, выступает документ, содержащий сведения о национальности заявителя. Как было показано ранее, ввиду отсутствия возможности указания признака национальной принадлежности в основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, сведения о национальности заявителя могут быть почерпнуты лишь в свидетельствах о государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния. Причем, напомним, возможности внесения в них исправлений и изменений в случае изъявления желания указать национальность либо изменить свой выбор законодательством не предусмотрено.
Не изменяет столь странного положения дел и признаваемая законодателем презумпция подтверждения национальной принадлежности лица к коренным малочисленным народам посредством предоставления документов, содержащих сведения о национальности родственника (родственников) заявителя по прямой восходящей линии. Подобное допущение явно расходится со смыслом ранее выделенного конституционного права каждого на свободное определение и указание своей национальной принадлежности, подлежащего реализации, по своему смыслу, без юридической привязки к факту ее наследования.
В рассматриваемом аспекте не может быть признан удовлетворяющим свободу реализации права на этническую идентификацию граждан и механизм предоставления искомых сведений общинами малочисленных народов, либо установление необходимого юридического факта посредством обращения в суд. Первое, как уже отмечалось, в отдельных случаях способно привести не столько к самоидентификации лица, сколько к выражению воли на то общественной организации. Второе же, как высказывается Т.Р. Полищук-Молодоженя, не всегда может удовлетворить потребности удаленно проживающих граждан, претендующих на получение соответствующего статуса ввиду недоступности, относительной затратности в финансовом и временном плане, а также юридической сложности прохождения судебной процедуры [5, с. 115].
Выводы
Таким образом, конституционно провозглашенное право на этническую идентификацию граждан Российской Федерации можно признать декларативным, практический смысл которого сводится лишь к запрету принуждения кого-либо к определению и указанию своей национальной принадлежности. Возможность же его активного использования ограничена отсутствием либо несовершенством механизма реализации и, в частности, формализации соответствующего волеизъявления заинтересованных в этом лиц. Кроме того, существующие все же в текущем законодательстве отдельные аспекты, которые позволяют, пусть и нецеленаправленно, публично раскрыть обществу свою приверженность к определенным языку, культуре, традициям, образу жизни и т. п., придают данному праву статический характер, поскольку не регламентируют порядка внесения исправлений и изменений в документы, содержащие сведения о национальности. Думается, что такое положение дел не способно в полной мере удовлетворить запросы многонационального населения страны на свободу волеизъявления в этнокультурной сфере, в особенности тех его представителей, которые рождены в смешанных браках и в силу определенных жизненных обстоятельств могут быть вынуждены по несколько раз изменять свою национальную идентичность.
В качестве исправления сложившейся ситуации можно предложить, во-первых, предусмотреть возможность указания национальности в основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, во-вторых, отказаться от доказательной практики установления национальной принадлежности конкретного лица. Очевидно, что подобные меры способны привести к возникновению правовых споров другого характера, связанных, например, с обеспечением льготного режима традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [6]. Однако их можно предотвратить посредством внесения изменений в законодательство в части предоставления соответствующих мер поддержки не индивиду в отдельности как представителю соответствующего этноса, а определенным формам их объединения (общинам).
Подобное позволит отграничить лица, объективно нуждающиеся в реализации в отношении них мер государственной поддержки, от тех, кто, возможно, на фоне нахлынувшего патриотизма или стремления приобщиться к определенным этнокультурным ценностям либо по иным субъективным причинам воспользовался конституционным правом на определение своей национальной принадлежности. Кроме того, это в большей степени будет соответствовать принципу, вытекающему из положений ст. 19 Конституции Российской Федерации, согласно которому национальность не может являться условием для реализации гражданином принадлежащих ему прав и свобод либо основанием для предоставления лицу каких-либо особых привилегий (льгот). В конечном итоге это позволит настроить механизм обеспечения рассмотренного конституционного права на действительную реализацию гражданами России предоставляемой им возможности свободной этнической идентификации самих себя с импонируемы-ми им национальными общностями и этническими группами, составляющими ту самую частичку могучего, сильного, многонационального народа Российской Федерации.
Список литературы Вопросы этнической идентификации граждан Российской Федерации
- Герасимова, В. А. Российские соотечественники за рубежом / В. А. Герасимова // Постсоветские исследования. - 2019. - Т. 2, № 1. -С. 904-921.
- Гунаев, Е. А. Этническая идентификация: правовые аспекты / Е. А. Гунаев // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. - 2013. - № 2. - С. 81-85.
- Зайнитдинов, Н. А. Указание национальности в паспорте гражданина Российской Федерации как форма реализации права на национальную принадлежность / Н. А. Зайнитдинов // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 1 (110). -С. 46-53.
- Коцубин, Ю. М. О праве каждого на определение и указание национальности / Ю. М. Коцубин // Конституционное и муниципальное право. -2021. - № 8. - С. 19-23.
- Полищук-Молодоженя, Т. Р. Правовые проблемы определения статуса коренных малочисленных народов Севера в России (на примере Мурманской области) / Т. Р. Полищук-Молодоженя // Труды Кольского научного центра РАН. - 2017. -Т. 8, № 4-11. - С. 106-121.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 27 «О практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих рыболовство» // Бюллетень Верховного Суща РФ. - 2011. - № 1.
- Романовская, О. В. Правовой статус национально-культурных автономий / О. В. Романовская // Культура: управление, экономика, право. -2013. - № 2. - С. 16-21.
- Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2021. - № 27 (ч. II). - Ст. 5351.
- Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. -2012.- № 52. - Ст. 7477.
- Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 47. -Ст. 5340.
- Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» // Собрание законодательства РФ. - 1996. -№ 25. - Ст. 2965.
- Федеральный закон от 24 мая 1999 г № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 22. -Ст. 2670.
- Федеральный закон от 30 апреля 1999 г №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2208.