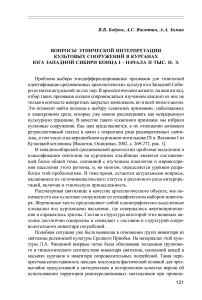Вопросы этнической интерпретации культовых сооружений в курганах юга Западной Сибири конца I - начала II тыс. н. э
Автор: Бобров В.В., Васютин А.С., Зимин А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521418
IDR: 14521418
Текст статьи Вопросы этнической интерпретации культовых сооружений в курганах юга Западной Сибири конца I - начала II тыс. н. э
ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА I - НАЧАЛА II ТЫС. Н. Э.
Проблема выбора этнодифференцированных признаков для этнической идентификации средневековых археологических культур юга Западной Сибири остается актуальной до сих пор. В археологическом аспекте, на наш взгляд, отбор таких признаков должен сопровождаться изучением каждого из них не только в контексте конкретных закрытых комплексов, но и всей эпохи в целом. Это позволит найти подходы к выбору «сквозных признаков», наблюдаемых в дианхронном срезе, которые уже можно рассматривать как непрерывную культурную традицию. В качестве такого «сквозного признака» мы избрали культовые сооружения. Как нам представляется, в их отношении возможен ретроспективный подход в связи с открытием ряда разновременных святилищ, в том числе и на верхнеобском курганном могильнике IX в. Ваганово I из Кузнецкой котловины [Васютин, Онищенко, 2002, с. 269-272, рис. 1].
В западносибирской средневековой археологии проблема выделения и классификации святилищ на курганных кладбищах является составляющей более общей темы, связанной с изучением идеологии и мировоззрения населения этого региона, и, во многом, определяется уровнем разработки этой проблематики. В тоже время, остаются актуальными вопросы, касающиеся их источниковедческого статуса и различного рода интерпретаций, включая и этническую принадлежность.
Рассматривая святилище в качестве археологического объекта, мы понимаем его как культовое сооружение со специфическим набором инвентаря. Жертвенные места представляют собой планиграфически выделенные площадки под курганными насыпями, где совершались жертвоприношения и справлялись тризны. Состав и структура категорий этих вещевых находок достаточно однородны и совпадает с составом и структурой сопроводительного инвентаря погребений.
Подобная ситуация уже была выявлена в отношении групп инвентаря из святилищ релкинской культуры Среднего Приобья. На материалах этой культуры Л.А. Чиндиной впервые четко была обоснована тенденция группового и типологического соответствия инвентаря святилищ, скоплений вещей в насыпях курганов и инвентаря сопроводительных погребений. Такая перекрестная сопоставимость находок послужила фактической основой для чрезвычайно продуктивной в методическом и историческом аспектах версии об использовании территории раннесредневековых могильников при проведе-
Рис. 1. Ваганово I. План культового сооружения на площади кургана № 2. Инвентарь жертвенных комплексов: 22; 28 – железные втульчатые наконечники копий; 23; 24; 40; 41; 76-78; 82; 88; 89 – железные наконечники стрел; 57 – железный обломок полосы клинка палаша; 63; 65; 88 – скопления и отдельные экземпляры железных панцирных пластин; 50; 72; 80. – бронзовые налобные бляхи-решмы; 45-47; 52 – бронзовые сердцевидные бляхи; 53; 54; – бронзовые геометрические бляхи с прямоугольной прорезью; 75; 85; – бронзовые полуовальные и сегментовидные бляшки с прямоугольной прорезью; 48; 51; 55 – бронзовые колесовидные тройники; 41; 91 – бронзовые наконечники ремней; 23-25 – железные стремена с пластинчатыми ушками; 16; 21; 27 – роговые подпружные пряжки; 17 – железные удила и кольчатый псалий; 73 - бронзовые бубенчики; 62 – металлические монеты с отверстиями.
нии определенных обрядов в качестве святилищ [Чиндина, 1991, с. 36-37].
В северо-западной Барабе на памятнике Сопка-2 среди разновременных курганов, что принципиально важно для нашей темы, впервые были открыты особые типы археологических комплексов XIII-XIV вв. н. э. Они по внешнему виду до раскопок неотличимы от курганных насыпей из синхронных и однокультурных могильников. Под насыпью нескольких курганов на древнем горизонте находились перевернутые сосуды и предметы из железа и кости, что аналогично жертвенным комплексам в курганах верхнеобской и релкинской археологических культур на Верхней и Средней Оби [Беликова, Плетнева, 1983, с. 109-110; Чиндина, 1991, с. 34-38; Молодин, Соловьёв, 2004 с 16, 20; Троицкая, Новиков, 1998, с. 24, 75-77]. Особую ценность для определения функционального назначения объектов и их этнической атрибуции представляли находки трех деревянных объемных фигурок идолов. Наличие четырехугольных деревянных конструкций и специфический набор предметов позволили рассматривать эти объекты как святилища, сопоставимые с культовыми местами угорских (хантов и манси) народов Западной Сибири [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 178, 180-181, рис. 110-112; Молодин, Новиков, 1998, с. 115-116, рис. 116-118]. Угорская принадлежность барабинских оград-святилищ подтверждается керамическим материалом, представленным круглодонным сосудом с гребенчато-ямочной орнаментацией и воротничком на внешней части венчика [Молодин, Новиков, 1998, рис. 117]. Сочетание жертвенных мест и святилища под курганными насыпями в пределах одного могильника Ваганово I из Кузнецкой котловины не только повторяет планиграфическую ситуацию на Сопке-2, но и сопоставимо как по характеру археологических источников (остатки обгоревшей деревянной рамы и подвергшихся воздействию огня предметов, размещенных на древнем горизонте и под курганной насыпью).
В культурно-генетическом аспекте временную и территориальную лакуны заполняют материалы из сросткинских курганов Новосибирского Приобья. В курганных могильниках Высокий Борок (курганы №№ 12, 13) и Ельцовский 1 (курган № 14) выявлены обугленные остатки подпрямоугольных деревянных конструкций из бревен, жердей, досок и берестяных полотнищ с вещами (наконечники стрел, тесло, нож и керамические сосуды, один из которых перевернут кверху дном) [Адамов, 1995, с.24-26; Адамов, 2000, с. 24-25, рис. 78; 94]. Жертвенно-поминальный характер культовых сооружений как в Новосибирском Приобье, так и в Барабе, очевиден, как и их связь с послепохоронным циклом. Все же автономные культовые сооружения в Барабе использовались в более широком культурном контексте, как святилища, в отличие от приобских оград.
Подведем некоторые итоги в отношении известных культовых сооружений. Все они перекрыты земляными конструкциями, идентичными курганным в синхронных и однокультурных могильниках (Ваганово I, Сопка 2) или сооружены на подкурганных площадках выше уровня погребений (Высокий борок, курган № 13, Сопка 2, погребение № 668), но чаще пристроены к курганам так, что выходят за границы их насыпей (Высокий борок, курган № 12, Ельцовский 1, курган № 14). Совпадает форма и материал таких сооружений – это четырехугольные ограды из бревен или досок, их следы сохранились в обугленном состоянии. Внутреннее пространство оград содержит также обугленные остатки бревен, жердей, обугленных и прокопченных остатков берестяных полотнищ. В частности, вся площадь вагановской ограды-святилища, включая дно и деревянные стенки, была перекрыта прокопченным берестяным полотнищем.
Все культовые объекты по завершению функционирования поджигались и земляная насыпь над ними возводилась в процессе их горения. В результате культовые сооружения прогорали неравномерно и сохранялась даже береста и предметы из кости. Вопрос о внешнем виде и конструкциях таких культовых объектов остается открытым. Наличие во внутреннем пространстве сооружений остатков вертикальных бревен, жердей и бересты, столбовых сооружений вдоль стенок и в углах свидетельствует, возможно, о первоначальной форме построек с каркасной конструкцией, как в одиночном кургане из Анненского 12 [Костюков, 2000, с. 331-332]. Достоверных данных для такой реконструкции пока нет. В этой связи, постановка вопроса о классификации рассматриваемых культовых сооружений с ориентировкой на этнографические материалы пока преждевременна [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 178]. Использование подкурганных площадок для сооружения и функционирования святилищ, поминальных сооружений и жертвенных мест – это не привнесенная из мира кочевых культур традиция, а широко распространенная в западносибирском регионе практика культового строительства среди местных групп населения, преимущественно угорского происхождения.