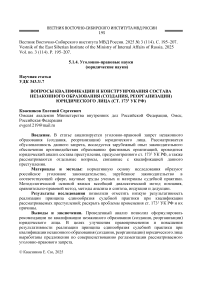Вопросы квалификации и конструирования состава незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 1731 УК РФ)
Автор: Квасников Е.С.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье анализируется уголовно-правовой запрет незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица. Рассматривается обусловленность данного запрета, исследуется зарубежный опыт законодательного обеспечения противодействия образованию фиктивных организаций, проводится юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 1731 УК РФ, а также рассматриваются отдельные вопросы, связанные с квалификацией данного преступления. Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют российское уголовное законодательство, зарубежное законодательство в соответствующей сфере, научные труды ученых и материалы судебной практики. Методологической основой явился всеобщий диалектический метод познания, сравнительно-правовой метод, методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Результаты исследования позволили отметить низкую результативность реализации принципа единообразия судебной практики при квалификации рассматриваемых преступлений; раскрыть проблемы применения ст. 1731 УК РФ и их причины. Выводы и заключения. Проведенный анализ позволил сформулировать рекомендации по квалификации незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица. В целях улучшения правоприменения и повышения результативности реализации принципа единообразия судебной практики при квалификации незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица выработаны предложения по совершенствованию регламентации рассматриваемого уголовно-правового запрета.
Незаконное образование, создание, реорганизация, юридическое лицо, преступление, государственный реестр, квалификация
Короткий адрес: https://sciup.org/143184919
IDR: 143184919 | УДК: 343.3/.7
Текст научной статьи Вопросы квалификации и конструирования состава незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 1731 УК РФ)
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица зачастую используется для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, хищений и иных экономических преступлений, что обуславливает рост преступности и в целом негативно влияет на экономику страны [1, с. 23].
Льготные налоговые режимы и упрощенные процедуры регистрации юридических лиц создают возможности для противоправного поведения через фиктивные организации. Схемы фиктивного бизнеса развиваются. Дигитализация и киберпреступность еще более усугубляют такое положение дел. Современные технологии позволяют регистрировать юридические лица дистанционно. Разумеется, это расширяет возможности совершения соответствующих преступлений [2]. Так, по сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2020 г. по первое полугодие 2024 г. за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц было осуждено 1420 лиц1.
В связи с постоянными изменениями отечественного уголовного и корпоративного законодательства обусловлена актуальность исследования проблематики квалификации незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, а также выработка рекомендаций по квалификации.
Социально-экономическая природа рассматриваемого преступления характеризуется феноменом массового создания «фирм-однодневок» для уклонения от налогов, незаконного обналичивания средств, незаконной банковской деятельности, отмывания денег, но не для осуществления законной предпринимательской деятельности.
Борьба с фиктивными организациями также важна для выполнения международных обязательств России в сфере противодействия коррупции и финансированию терроризма.
Зарубежный опыт противодействия образованию фиктивных организаций также свидетельствует о наличии рассматриваемой проблемы и о ее масштабе. Так, в странах Европейского союза борьба с фиктивными компаниями осуществляется посредством пятой (2018 г.) и шестой (2020 г.) директив по борьбе с отмыванием денег (AMLD5 и AMLD6), которые требуют прозрачности информации о конечных бенефициарных владельцах компаний. Государства Европейского союза обязаны вести реестры бенефициаров, доступные как государственным органам, так и в некоторых случаях общественности2. Например, в Германии действует Закон о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz, GwG), который обязывает компании раскрывать информацию о конечных владельцах в «Прозрачном реестре» (Transparenzregister) 3 . В Великобритании в 2022 году принят Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act, ужесточающий требования к раскрытию информации о владельцах юридических лиц, особенно офшорных компаний. За деятельность фиктивных организаций предусмотрена как уголовная ответственность, так и административные санкции4.
В США основными нормативно-правовыми мерами борьбы с фиктивными компаниями являются Corporate Transparency Act (CTA) (2021) 5 , в соответствии с которым введен федеральный реестр конечных бенефициаров, находящийся в ведении Финансовой разведки (FinCEN). Компании обязаны раскрывать информацию о бенефициарных владельцах, а за сокрытие данных предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность; Patriot Act (2001) и Bank Secrecy Act (BSA) 6 , согласно которым ужесточены требования к банковскому контролю за клиентами, запрещены анонимные счета и операции с подставными компаниями без идентификации владельцев. IRS (налоговая служба) и FinCEN проверяют схемы использования фиктивных компаний для отмывания денег, уклонения от налогов и финансирования терроризма.
В Китае борьба с фиктивными юридическими лицами осуществляется посредством реформы корпоративной регистрации – введена единая система кредитного кода для идентификации организаций; усилены требования к прозрачности владельцев бизнеса, включая регистрацию в национальном реестре предприятий. Государство отслеживает подозрительные финансовые потоки через систему контроля банковских транзакций. В 2021 году Китай закрыл более 100 000 компаний, подозреваемых в фиктивной деятельности [3]. Использование фиктивных компаний для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег влечет уголовную ответственность, вплоть до пожизненного заключения7.
Таким образом, для противодействия созданию фиктивных организаций Европейский союз делает упор на раскрытие информации о бенефициарах через публичные реестры; США строго контролируют компании через FinCEN и налоговые органы; Китай использует централизованный государственный контроль и жесткие меры ответственности для нарушителей.
В целях уголовно-правового противодействия незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц УК РФ установлен запрет, регламентированный нормами ст. 1731 УК РФ. Он заключается в воспрещении образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
При квалификации преступления по рассматриваемой уголовно-правовой норме могут возникать следующие сложности: в установлении факта создания (регистрации) юридического лица путем предоставления заведомо ложных сведений (какие именно сведения были на подставных лиц и были ли они существенными для проведения государственной регистрации); в установлении умысла на совершение преступления; в отграничении от смежных составов преступлений (являлось ли преступление самостоятельным или лишь средством совершения другого преступления); в определении момента окончания преступления; в выявлении организатора (в практике часто используются подставные лица (номинальные директора), а реальный организатор остается в тени. Требуется выявить связь между номинальным руководителем и лицом, которое фактически инициировало регистрацию).
Объектом рассматриваемого преступления являются отношения, связанные «…с осуществлением предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг»8.
Преступление, предусмотренное ст. 1731 УК РФ, признается оконченным с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений.
В общем виде объективная сторона данного преступления заключается не только в создании (реорганизации) юридического лица на подставное лицо с использованием заведомо ложных сведений (когда сам факт создания фиктивного юридического лица уже является преступлением, вне зависимости от последующего использования), но и в предоставлении в соответствующий уполномоченный орган данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.
Так или иначе и то и другое деяние непосредственно связано с внесением изменений в ЕГРЮЛ. В связи с этим согласимся с мнением А. Н. Ляскало и В. В. Бальжинимаевой о том, что рассматриваемый состав преступления мог бы быть сформулирован лаконичнее – по аналогии со ст. 1701 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», где деяние носит общий характер противоправного воздействия на содержание соответствующего реестра [4].
Процедура создания (реорганизации) юридических лиц регламентирована гражданским законодательством, Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В ней четко определено, какие документы (соответствующее заявление по утвержденной форме, решения в определенных видах документов, уведомления и т. д.) необходимо предоставить в налоговый орган для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. «…под представлением данных следует понимать представление любых подлежащих внесению в единый государственный реестр юридических лиц данных о подставных лицах, за исключением тех случаев, когда такие данные представляются при образовании (создании, реорганизации) юридического лица»9.
Для квалификации преступления как неоконченного важно учитывать фактическую возможность создания (регистрации) юридического лица путем внесения соответствующих сведений о подставных лицах после предоставления необходимых для этого данных. Данная «возможность» определяется характером предоставляемых данных – фигурировали ли в таких данных подставные лица и были ли они необходимы для государственной регистрации. В случае, если государственная регистрация юридического лица или внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, не были завершены по не зависящим от виновного обстоятельствам, данные деяния могут быть квалифицированы как покушение на преступление. Приискание подставных лиц, подготовка документов для совершения регистрационных действий и их представление в регистрирующий орган также квалифицируется как неоконченное преступление [5, с. 132].
Рассматриваемый уголовно-правовой запрет направлен на противодействие незаконному образованию юридического лица. В совершении рассматриваемого преступления могут принимать участие все указанные в ст. 33 УК РФ лица.
Вместе с тем детально объективная сторона совершения незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица заключается в приискании «первыми» лицами «вторых» лиц. Этим «вторым» лицам за определенное вознаграждение предлагается стать участниками или органом управления юридического лица, для чего последним необходимо совершить действия, направленные на образование (создание, реорганизацию) юридического лица, с целью, например, проведения «первыми» лицами незаконных финансовых операций, которые содержат или могут содержать признаки иных составов преступлений. При этом «вторые» лица могут и не знать, что именно им нужно сделать для внесения сведений о создании/реорганизации юридического лица в ЕГРЮЛ или как получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), являющуюся цифровым аналогом собственноручной подписи, с помощью которой можно подписывать любые документы без предварительной договоренности с другой стороной. В этом случае действия «вторых» лиц организуют «первые» лица.
«Вторые» лица за вознаграждение предоставляют комплект своих документов (паспорт, СНИЛС, ИНН) для регистрации юридического лица в Федеральной налоговой службе Российской Федерации (далее – ФНС России). Причем, используя сервисы ФНС России, при наличии электронной подписи возможно подать документы на регистрацию в электронном виде, и в ЕГРЮЛ будут внесены соответствующие сведения – юридическое лицо будет зарегистрировано в течение трех рабочих дней со дня подачи документов10.
В законе не закреплены специальные признаки субъекта преступления, предусмотренного ст. 1731 УК РФ. Смысл данной нормы заключается в уголовноправовом воздействии на «теневого организатора» незаконного образования (создания/реорганизации) юридического лица. Ответственность подставных лиц за предоставление соответствующих документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ предусмотрена ст. 1732 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»11. Отметим, что за период с 2020 г. по первое полугодие 2024 г. за совершение данного преступления было осуждено 8815 лиц12. Количество осужденных по ст. 1732 УК РФ в разы превышает число осужденных по ст. 1731 УК РФ.
Вместе с тем объективная сторона альтернативных действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 1731 УК РФ (предоставление данных), по своей сути охватывает деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 1732 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность). Содержание диспозиции ч. 1 ст. 173 1 УК РФ не дает однозначного определения того, кто именно должен быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица.
Во-первых, факт учреждения или изменения юридической формы организации наступает лишь после внесения изменений ЕГРЮЛ уполномоченными на то органами (ФНС России); во-вторых, предоставление соответствующих данных о подставных лицах может быть осуществлено как этими же подставными лицами по указанию организатора или подстрекателя либо вследствие заблуждения/без ведома, так и самим «теневым организатором» (в данном случае его действия на практике квалифицируются как действия исполнителя преступления) или иными лицами, например, нотариусом [6]; в-третьих, в законе прямо предусмотрена ст. 1732 УК РФ, фактически предусматривающая ответственность за покушение на преступление, предусмотренное ст. 1731 УК РФ.
В диспозиции ч. 1 ст. 1732 УК РФ обозначены действия, влекущие уголовную ответственность: предоставление документа, удостоверяющего личность, выдача доверенности. Тем не менее на практике к уголовной ответственности по ст. 173 1 УК РФ привлекаются в том числе подставные лица, которые сами же и предоставили документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Так, К. была осуждена по ч. 1 ст. 173 1 УК РФ: «…К., вследствие отсутствия опыта ведения бизнеса и регистрации юридического лица, воспользовалась помощью стороннего лица…действия осужденной, установленные судом, свидетельствуют о том, что она осознавала, что предоставляя пакет документов с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений, которые влекли образование юридического лица, в котором она должна была являться номинальным учредителем и руководителем, то есть осознавала противоправный характер своих действий, их общественную опасность»13.
В связи с закреплением в законе ст. 1732 УК РФ также возникает вопрос о противоречии принципу non bis in idem при квалификации деяния одного и того же субъекта (подставного лица), действующего с единым умыслом по совокупности ч. 3 ст. 30, ст. 1731 УК РФ (либо ч.ч.1,2 ст. 1731 УК РФ) и ст. 1732 УК РФ14. Так, например, действия Т. были квалифицированы по совокупности п. «б» ч. 2 ст.1731 УК РФ и ч.1 ст.1732 УК РФ15. Т. являлся подставным лицом, а сам «теневой организатор» не был установлен.
Юридическая конструкция ст. 173 1 УК РФ не содержит специальной формы соучастия, как например, в ст. ст. 2051, 209, 210 УК РФ, поэтому действия организаторов, подстрекателей и пособников незаконного образования юридического лица квалифицируются со ссылкой на ст. 33 УК РФ, в том числе с вменением квалифицирующих отягчающих обстоятельств.
Для квалификации преступления по рассматриваемой уголовно-правовой норме имеет значение выполнение субъектом объективной стороны преступления, а также создание субъектом условий для его совершения. Так, обжалуя судебные решения нижестоящих инстанций, С. посчитал квалификацию своих действий по ч. 1 ст. 173 1 УК РФ излишней, поскольку его умысел был направлен исключительно на хищение денежных средств путем обмана, следовательно, его деяние охватывается составом мошенничества. Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) отметил, что «…образование юридического лица в конечном счете имело своей целью совершение хищений…преступление непосредственно причиняло вред не отношениям собственности, а иному объекту уголовно-правовой охраны, а именно отношениям, связанным с осуществлением предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Этому преступлению…присущи особенности, характеризующие его объективную сторону и направленность умысла, что также обусловливает необходимость квалификации действий, связанных с незаконным образованием юридического лица в целях завладения чужим имуществом путем мошенничества, как совокупности преступлений»16.
Передача чужого предложения о создании юридического лица за вознаграждение от субъекта, который приобрел пакет документов для образования юридического лица на подставное лицо и передал данные документы еще через одного посредника, не образуют объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 1731 УК РФ, и не свидетельствует о его совершении в какой-либо форме соучастия, поскольку данные действия не соответствуют ни одному виду, перечисленному в чч. 2, 4 и 5 ст. 33 УК РФ17.
Объективная сторона рассматриваемого преступлениях характеризуется только действием. Уголовно-правовой доктриной выработано правило, согласно которому уголовная ответственность за бездействие наступает только в тех случаях, когда на субъект была возложена обязанность действовать определенным образом [7, с. 70] при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте [8, с. 12; 9].
Из этого следует вопрос о квалификации деяния специального субъекта, которому, например, в силу занимаемой должности надлежит действовать в соответствии с возложенными на него обязанностями или специальными полномочиями. Поскольку противоправные действия такого субъекта либо выходят за рамки его полномочий, либо осуществляются вопреки интересам службы, содеянное следует квалифицировать как должностное преступление.
Например, умышленные действия по внесению сведений в ЕГРЮЛ, при уверенности лица в недостоверности вносимых сведений образует состав преступления, предусмотренного ст. 2853 УК РФ «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений», поскольку, во-первых, исходя из размера наказания данное преступление является более опасным, чем преступление, предусмотренное ст. 1731 УК РФ [10], во-вторых, такие действия не входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 173 1 УК РФ, в-третьих, такое деяние подрывает авторитет государственной службы.
Последствия от внесения соответствующих изменений в государственные реестры могут быть альтернативными. Так, в результате внесения может быть, например, незаконно образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо; данное юридическое лицо может быть образовано с целью финансирования террористической деятельности или легализации средств, полученных преступным путем; может быть незаконно зарегистрирована предпринимательская деятельность и др. В зависимости от конкретного реестра перечень вносимых сведений может отличаться.
Однако виновный в совершении преступления, предусмотренного ст. 2853 УК РФ, может знать, что рассматриваемые сведения вносятся в реестр для совершения иных преступлений другими лицами (то есть иметь осведомленность общего характера о преступлениях), может вовсе целенаправленно объединять усилия с другими лицами для совершения конкретных преступлений, а может действовать и неумышленно по отношению к иным преступлениям.
Исходя из этого при наличии умысла виновного на совершение преступления, предусмотренного ст. 2853 УК РФ, а также умысла на совершение преступлений, непосредственно связанных с внесением заведомо недостоверных сведений в ЕГРЮЛ (или последствиями такого внесения), содеянное нужно квалифицировать по совокупности ст. 2853 УК РФ с соответствующими уголовно-правовыми нормами.
Исключением не является и квалификация по совокупности ст. 2853 УК РФ со ст. 1731 УК РФ. Объективные стороны в указанных нормах – разные. Юридический факт образования (создания, реорганизации) юридического лица наступает с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ18. Соответственно, без внесения данных изменений в реестр совершить оконченное преступление, предусмотренное ст. 173 1 УК РФ, нельзя.
Таким образом, умышленные действия при уверенности, например, представителя ФНС России в том, что он вносит в ЕГРЮЛ недостоверные сведения для незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, при условии отсутствия осознания признаков других преступлений должно квалифицироваться по совокупности ст. 2853 УК РФ с ч. 5 ст. 33, ст. 1731 УК РФ (пособничество в незаконном образовании юридического лица).
Само по себе слово «подставное» означает намерение обмануть, ввести в заблуждение. Лексическое значение данного слова заключается в подлоге действительного, настоящего19. Умышленное совершение действий, направленных на внесение изменений в ЕГРЮЛ либо через подставных лиц, либо данных о подставных лицах свидетельствует о максимальной конкретизации юридического элемента интеллектуального содержания умысла виновного. Из этого следует вывод о том, что субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом.
В примечании к ст. 1731 УК РФ указано, что подставными лицами могут считаться: учредители, участники, физические лица, представляющие органы управления юридического лица, введенные в заблуждение или без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ; физические лица, представляющие органы управления юридического лица, у которых нет цели управления юридическим лицом.
Очевидно, что лица, введенные в заблуждение и не ведающие того, что данные о них вносятся в ЕГРЮЛ с целью незаконного образования (создания/организации) юридического лица, не должны подлежать уголовной ответственности ввиду отсутствия вины. Если же субъект изначально осознает, что в случае внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ, он будет являться органом управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом, его осознание общественной опасности своих действий презюмируется, равно как презюмируется осознание общественной опасности своих действий «теневым организатором».
Подводя итог сказанному, можем сделать ряд выводов.
-
1. В связи с неоднозначным содержанием диспозиции ч. 1 ст. 173 1 УК РФ на практике встречаются случаи ошибочной квалификации. Основные ошибки заключаются в квалификации рассматриваемого преступления как оконченного, а не как покушения на ст. 1731 УК РФ, либо как оконченного преступления – по ст. 1732 УК РФ; квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 1731 УК РФ и ст. 1732 УК РФ, а не как оконченного преступления – по ст. 1732 УК РФ.
-
2. Дальнейшая трансформация уголовного и корпоративного законодательства будет препятствовать реализации принципа единообразия судебной практики при квалификации преступления по ст. 1731 УК РФ. Так, уже обсуждается очередной законопроект о внесении изменений и дополнений в рассматриваемую уголовноправовую норму, в соответствии с которым предлагается регламентировать уголовную ответственность за незаконное получение статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такие действия «…обладают сопоставимой общественной опасностью с незаконным образованием юридических лиц»20.
-
3. Преступления, предусмотренные ст. ст. 1731, 1732 УК РФ, так или иначе всегда связаны с внесением изменений в ЕГРЮЛ либо потенциальной возможностью изменения ЕГРЮЛ. Институт соучастия в полной мере распространяется на такие уголовно-правовые запреты.
Ст. ст. 1731, 1732 УК РФ были введены законодателем в целях противодействия образованию (созданию, реорганизации) фиктивных организаций. Инициативы по изменению и дополнению данных норм относительно закрепления регламентации уголовной ответственности за незаконное получение статуса индивидуального предпринимателя также связаны с идеей противодействия внесению изменений в соответствующий государственный реестр.
В этой связи считаем, что закрепление в УК РФ двух составов – ст. ст. 1731, 1732 фактически «разделяет» ответственность за единое общественно опасное деяние. Принцип единообразия судебной практики при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с представлением заведомо ложных данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях внесения изменений в соответствующий государственный реестр, будет реализован, когда уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) хозяйствующих субъектов будет закреплена в одном составе преступления.