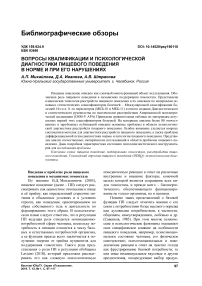Вопросы квалификации и психологической диагностики пищевого поведения в норме и при его нарушениях
Автор: Михайлова Анна Павловна, Иванова Дарья Антоновна, Штрахова Анна Владимировна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Библиографические обзоры
Статья в выпуске: 1 т.12, 2019 года.
Бесплатный доступ
Пищевое поведение описано как сложный многоуровневый объект исследования. Обозначена роль пищевого поведения в механизмах поддержания гомеостаза. Представлена клиническая типология расстройств пищевого поведения и их описание по материалам основных статистических классификаторов болезней - Международной классификации болезней 10-го и 11-го пересмотров (МКБ-10 и МКБ-11) и пятого издания Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации (DSM-V APA) Приведена сравнительная таблица по материалам актуальных версий этих классификаторов болезней. На материале анализа более 80 отечественных и зарубежных публикаций описаны основные проблемы в области психологической диагностики расстройств пищевого поведения. Особое внимание уделяется вопросу систематики методик для диагностики расстройств пищевого поведения, а также проблеме дифференциальной психодиагностики нормы и патологии пищевого поведения. Представлен анализ отечественных эмпирических исследований в области проблемы пищевого поведения. Дана подробная характеристика состояния психодиагностического инструментария для исследования проблемы.
Пищевое поведение, поддержание гомеостаза, расстройства пищевого поведения, голландский опросник пищевого поведения (debq), психологическая диагностика
Короткий адрес: https://sciup.org/147233078
IDR: 147233078 | УДК: 159.924.9 | DOI: 10.14529/psy190110
Текст обзорной статьи Вопросы квалификации и психологической диагностики пищевого поведения в норме и при его нарушениях
Введение к проблеме роли пищевого поведения в механизмах гомеостаза
По мнению В.Д. Менделевича (2005), пищевое поведение (далее – ПП) следует рассматривать как ценностное отношение к пище и её приёму, как определенный стереотип питания в обыденных условиях и в условиях стресса, как поведение, ориентированное на образ собственного тела и деятельность по формированию этого образа. В психологическом плане следует отметить, что в регуляции ПП ведущая роль отводится мотивационно-потребностной сфере человека, поскольку потребность в питании относится к числу базовых и естественных потребностей организма, а ее функция прежде всего заключается в получении энергии от приёма нутриентов для поддержания гомеостаза. Такого рода представления о роли ПП в регуляции обобщены Laviano (2018), который предложил рассматривать его как сложную психологическую поведенческую реакцию в ответ на различные внутренние и внешние факторы, конечной целью которой является сохранение всех видов гомеостаза, и прежде всего – биоэнергетического, обеспечивающего функционирование не только организма, но и психики.
Помимо таких представлений о базовой функции ПП следует отметить мнения о его связи с потребностями более высокого порядка или духовными потребностями, в частности, общением, самоутверждением, любовью и др. (Савенков, 1985). При этом многие психические и психологические феномены оказывают свое специфическое влияние на особенности пищевого поведения, например, психоэмоциональное состояние человека, его физическое самочувствие; психоэмоциональные и поведенческие реакции в ответ на чувство голода как фрустрирование базовой потребности; те или иные индивидуальные вкусовые и другие предпочтения, опосредующие выбор продук- тов питания и ПП в целом; стремление следовать определенным поведенческим стереотипам, традициям, ритуалам и т. п. В определенном контексте можно рассматривать такие факторы, как «внутренние (субъективные) аспекты ПП». С другой стороны, на психологические аспекты ПП человека оказывают свое влияние и факторы, связанные с самой потребляемой пищей («внешние факторы»), в частности, ее внешний вид и иные органолептически значимые характеристики блюд и пищевых продуктов, стимулирующие либо угнетающие аппетит и, в конечном итоге, определяющие выбор качества и количества потребляемой пищи; объем и доступность принимаемых пищевых продуктов (например, в рамках системы т. н. all inclusive); ее соотнесенность с определенными критериями, требованиями, запретами и нормами, опосредующими выбор либо отказ от ее приема (отношение к блюдам «национальной» либо «чужестранной» кухни; «кошерность» либо «запретность» определенных пищевых продуктов в определенных этносах, их соответствие/несоответствие иным естественным либо искусственно вызванным стимулами либо ограничениям в приеме определенных продуктов в определенные периоды (в зимние периоды, периоды религиозных праздников и постов и т. п.). Более сложные соотношения возникают на пересечении «субъективных» и «внешних» факторов, например, субъективная осведомленность о качестве, «полезности» и безопасности доступной пищи, о предпочтительности выбора т. н. нутрицевтиков (обладающих лечебно-профилактическим и здоровьесберегающими возможностями пищевых продуктов1 перед традиционными продуктами питания); следование распространяемым в обществе и отдельных популяциях и стратах «модным» стратегиям ПП в виде различных диет и иных ограничений приема определенных пищевых продуктов либо, наоборот, социально-одобряемое стимулирование их употребления и т. п. Отдельный аспект этой проблемы разворачивается в плоскости пищевого поведения, связанного, опосредующего либо влияющего на формирование и развитие различных форм патологии и заболеваний (от диетических ограничений и требований к пище при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ожирении, сахарном диабете и т. п. расстройствах до регламентации приема определенных видов продуктов и их ингредиентов при терапии определенными медикаментами).
Несмотря на обилие научных публикаций и изданий по теме, связанной с проблемой пищевого поведения, в отечественных источниках отсутствует определение и критерии условно нормативного или здорового ПП, которое в разных источниках обозначается также как гармоничное или адекватное. При этом особенности девиантного или отклоняющегося (а также – патологического, нарушенного) ПП описаны достаточно подробно, что позволяет дифференцировать «методом исключения» только ту «норму», которая не является «патологией». В практике встречаются также субклинические («донозологические») или симптоматические варианты ПП, которые не полностью соответствуют критериям той или иной нозологии либо полностью не соответствуют им, но при определенных условиях (чаще всего – при наличии «субъективных» патопла-стических факторов ПП) могут служить факторами риска развития патологических форм заболеваний либо патологических вариантов нарушения гомеостаза и расстройств адаптации, опосредуемых, в том числе, особенностями пищевого поведения человека.
В связи с этим отграничение нормативного ПП от проявлений уровня доклинических, симптоматических и клинических их вариантов предоставляется достаточно сложной практической задачей (Михайлова, 2018).
К вопросу о систематике пищевого поведения
Как правило, в литературных источниках научного характера все эти три типа ПП обозначены как патологические (Вознесенская, 2004; Мищенкова, 2012). Однако только два из них – эмоциональный и ограничительный тип – эквивалентно представлены в тех или иных рубриках клинических классификаторов. Для соответствия такого типа критериям отнесения к той или иной нозологической форме в патогенезе таких вариантов ПП должна присутствовать определённая (значительная) степень проявлений психологической (прежде всего – поведенческой) симптоматики, индуцирующей впоследствии и другие аспекты психологических и психопатологических феноменов. При этом вопрос, является ли патологическим эпизодическое проявление поведенческих паттернов, связанных с тем или иным типом ПП, или такие проявления можно расценивать как условно нормативные – остаётся дискуссионным.
Клиническая типология расстройств ПП
По описанию О.А. Скугаревского (2007), под нарушениями ПП (НПП) принято понимать расстройство, для которого характерны следующие признаки:
-
• отчетливое нарушение пищевых привычек или в целом поведения по контролю массы тела;
-
• эти нарушения или наблюдаемые кардинальные симптомы нарушенного пищевого поведения приводят к клинически значимому повреждению соматического здоровья или психосоциального функционирования;
-
• поведенческие нарушения не должны быть составляющими либо следствиями любых соматических или иных психических расстройств.
Распространённость НПП по различным данным клинико-эпидемиологических исследований в популяции в разных странах составляет от 0,7 до 8 % численности их населения (Ромацкий, 2006). Такие расстройства значимо чаще встречаются у женщин, что во многом объясняется большей частотой раннего использования ими диет и сопутствующими психиатрическими проблемами (последние, по данным О.А. Скугаревского, повышают риск развития НПП в 7 раз). В целом расстройства ПП признаны патологией со сложной полиэтиологической природой. В последнее время, особенно по данным зарубежных исследований, в развитии этих патологий большое значение придаётся генетическим факторам (Кибитов, 2016). Изучение этиопатогенетических особенностей является важной задачей современной медицины и клинической психологии, поскольку нарушения ПП вызывают выраженную дезадаптацию у пациентов, а их вклад в несвязанные первично с этиопатогенетическими факторами психических расстройств причины смертности считается самым высоким среди других таких причин смертности лиц с психической патологией и составляет, по данным зарубежных авторов, от 1,92 до 10,5 % умерших в общей структуре стандартизованного коэффициента смертности (Papadopoulos, 2009; Birmingham, 2005).
В настоящее время существует несколько клинических классификаций расстройств ПП. Небольшой (по объему опубликованной статьи) аналитический обзор литературы по вопросам феноменологии и классификация нарушений пищевого поведения еще в 2006 г. был выполнен В.В. Ромацким.
Клинические варианты РПП представлены в двух основных классификаторах психических расстройств:
-
• в двух версиях «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ) – в используемой в настоящее время десятой ее редакции (МКБ-10) и во вступающей в действие с 1 января 2020 г. одиннадцатой редакции классификатора (МКБ-11);
-
• в относительно новой утвержденной в 2013 г. Американской психиатрической ассо-
- циацией пятой версии национального «Справочника по диагностике и систематике психических расстройств» (DSM-V).
В табл. 1 приведено сравнение этих клас-сификаций2.
В целом в проекте одиннадцатого пересмотра Международной классификации болезней модуль расстройств ПП претерпел значительные уточнения:
-
• эти расстройства объединены в одну разновозрастную группу с формулированием единых диагностических критериев и категорий для всех возрастов;
-
• введена классификация нервной анорексии в зависимости от преобладающего паттерна поведения и ее градация по степени тяжести, связанной с величиной массы тела;
-
• введены новые диагностические категории.
Предполагается, что эти изменения будут способствовать более качественной и точной дифференциальной диагностике расстройств ПП в клинической практике. Вместе с тем требуют своего уточнения несколько положений, связанных с этими классификаторами.
Из всех типов расстройств ПП наиболее распространенными являются нервная анорексия и нервная булимия.
Нервная булимия (НБ) характеризуется повторяющимися приступами переедания. Поглощение значительного количества пищи рассматривается, прежде всего, как поведенческий акт, направленный на избавление таким способом от испытываемого человеком высокого аффективного напряжения. Эпизоды переедания чередуются с эпизодами очистительного поведения, направленными на избавление от принятой пищи путем рвоты или стимулирования акта дефекации.
Относительно близкой к булимии нозологической единицей является новое для этих классификаторов болезней (присутствующее и в DSM-V, и в проекте МКБ-11) расстройство
Таблица 1
Классификации расстройств пищевого поведения: МКБ-10, проект МКБ-11, DSM-5
|
МКБ-10 |
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами F50 Расстройства приёма пищи F50.0 Нервная анорексия F50.1Атипичная нервная анорексия F50.2 Нервная булимия F50.3 Атипичная нервная булимия F50.4 Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами F50.5 Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами F50.8 Другие расстройства приёма пищи F50.9 Расстройство приема пищи неуточненное F98 – Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте F98.2 Расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте F98.3 Поедание несъедобного младенцами и детьми |
|
МКБ-11 (утвержденный ВОЗ проект) |
Психические, поведенческие расстройства или расстройства неврологического развития (нейроразвития) Расстройства пищевого поведения 6B80 Нервная анорексия (НА) 6B80.0 НА со значительно низкой массой тела
6B80.Y Другие типы НА 6B80.Z НА неуточненная 6B81 Нервная булимия 6B82 Компульсивное (приступообразное) переедание 6B83 Рестриктивное (ограничительное) расстройство приема пищи 6B84 Пика 6B85 Расстройство руминации-регургитации 6B8Y Другие расстройства пищевого поведения 6B8Z Расстройства пищевого поведения неуточненные |
|
DSM-V |
Расстройства пищевого поведения
|
под англоязычным названием «binge eating dis-order». По разным данным, встречающимся в русскоязычной литературе, этот тип расстройства обозначают как «приступообразное переедание» (Кибитов, 2016) или «компуль- сивное переедание» (Ухер, 2012). Это заболевание характеризуется частыми, повторяющимися эпизодами переедания, в течение которых человек в силу ощущения субъективной потери возможности контроля над коли- чеством поглощаемой пищи становится не способным остановиться или ограничить объем ее употребления. Главное отличие этой формы патологии от булимии заключается в нерегулярности сопровождения приступов переедания эпизодами компенсаторного поведения, направленными на предотвращение набора веса. Тем не менее, представляется, что нозологическая близость этих нарушений не вызывает сомнений. В российской научной литературе по этой проблеме предлагается рассматривать такие расстройства в виде континуума, на одном полюсе которого находится приступообразное переедание, а на другом – очистительная булимия, при том, что промежуточное место между ними занимает неочистительная форма булимии (Кибитов, 2016).
Расстройство, названное «пика» или пи-кацизм (от англ. – «pica»), присутствующее в МКБ-10 в нозологической категории «Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте» (код F98.3 по МКБ-10) под наименованием «Поедание несъедобного младенцами и детьми», в утвержденном проекте МКБ-11 представлено наряду с другими такого рода расстройствами пищевого поведения, рассматриваемыми без ограничений по отношению к возрасту пациента. Она проявляется регулярным потреблением человеком априорно непитательных веществ (мел, клей, пластик, металл, бумага, земля и др.).
Рестриктивное (ограничительное) расстройство ПП, как и расстройство руминации-регургитации, являются относительно новыми нозологическими единицами, внесёнными в проект МКБ-11.
Рестриктивное расстройство связано с употреблением недостаточного в части количества либо в части разнообразия содержания потребляемой пищи, которое заведомо не удовлетворяет адекватным энергетическим потребностям организма. Такое поведение приводит к значительному снижению веса и дефициту потребления и использования в целях ассимиляции и анаболизма питательных веществ, однако в клинико-психологическом плане оно не связано с озабоченностью пациента своим весом и формой своего тела.
Значимую роль для клинической диагностики расстройств ПП имеет высокая степень их коморбидности с другими соматическими, неврологическими и более всего психиатрическими заболеваниями, а также преходящий характер одних расстройств ПП, клинически выражающийся переходом одних форм в другие у пациентов не только гастроэнтерологического профиля, но больных другими соматическими заболеваниями (Ромацкий, 2006; Артемьева, 2012). Особенно часто в научной литературе отмечается миграция нервной анорексии в нервную булимию при сохранении общности этиопатогенетических (в том числе психопатологических) факторов. В практическом плане такое изменение пато-морфоза затрудняет установление истинного диагноза заболевания у пациента и вторично – выбор терапевтической стратегии.
Кроме перечисленных выше клинических форм в публикациях зарубежных исследователей выделяются также множество вариантов субклинических проявлений нарушения пищевых паттернов, например, патологический голод, частые «перекусывания», «углеводная жажда», самоограничения в питании и различные стратегии, компенсирующие переедание и др. (Opwis, 2016).
Можно отметить несколько направлений клинических исследований расстройств пищевого поведения, в той или иной степени приводящих к формированию коморбидной патологии либо к таким заболеваниям, в структуру клинической картины которых РПП входят как составляющая часть (в виде симптомокомплекса). Как правило, паттерны такого рода коморбидности достаточно традиционны и представлены прежде всего сочетанием РПП и различного рода обменных нарушений. Наиболее часто в отечественной литературе по этой проблеме встречаются публикации по различного рода вариантам РПП при избыточной массе тела и ожирении (Волкова, 2007, 2009; Вознесенская, 2004; Га-дельшина, 2015; Завражных, 2008; Кочемиро-ва, 2014; Малкина-Пых, 2008, 2010; Митрошина, 2010; Миняйлова, 2017; Наймушина, 2008; Салмина-Хвостова, 2009; Смирнова, 2007; Терещенко, 2010).
Вопросы пищевого поведения рассматриваются и при сочетании ожирения с другими заболеваниями, в частности – с патологией гепатобилиарной (желчевыводящей) системы (Хисматуллина, 2012а, 2012б), сахарным диабетом (Вербовой, 2008), артериальной гипертензией (Копчак, 2009), бронхиальной астмой (Печкуров, 2013), эндокриногинекологиче-ской патологией (Ткаченко, 2015), а также НПП на фоне ожирения с учетом поведенческих и наследственных факторов (Кочемиро-ва, 2014). Рассматриваются НПП при сахарном диабете (Закс, 2009; Панина, 2018).
В отдельное направление исследований оформляется изучение расстройств пищевого поведения в сочетании с метаболическим синдромом (Завражных, 2011; Мищенкова, 2010).
Большое внимание уделяется гендерным аспектам сопряженности НПП и ожирения (Мищенкова, 2012), но при этом акцент делается на этой проблеме у женщин (Балаи, 2012; Овчарова, 2016 и др.), особенно – в период беременности (Гмошинская, 2013; Горюнова, 2017).
Публикуются также результаты исследования различных аспектов ПП и его расстройств у детей и подростков (Наймушина, 2008; Захарченко, 2009; Чугунова, 2012; Печкуров, 2013; Юдицкая, 2014, 2015; Салдан, 2014; Исаакян, 2015; Шакирова, 2015; Казанина, 2015; Ткаченко, 2015; Пискун, 2017; Прилуцкая, 2017; Хатыпова, 2018 и др.). Публикации по этой проблеме у молодежи представлены практически единичными источниками (см., например, Лемешко, 2015; Митрошина, 2010), причем акцент преимущественно делается на период студенчества (Гурвич, 2012; Салмина-Хвостова, 2010). Так же редко встречаются и публикации об изучении этих вопросов у пожилых (Третьяков, 2014).
Отдельное направление психологических исследований представляет собой изучение пищевого поведения как такового, в частности, в соответствии с его типологией (Вахмистров, 2001; Хвостова, 2005; Чуева, 2016, Юдицкая, 2015). Кроме того, изучаются определенные психологические факторы в соотнесении их с особенностями пищевого поведения, в частности, темперамент (Проскурякова, 2018), психологическая компетентность в сфере пищевого поведения (Каирова, 2009), социальная фрустрация (Баулина, 2016), индивидуально-психологические особенности и система самоотношения личности (Толочко-ва, 2014; Шабанова, 2016), особенности ког- нитивного функционирования (Дурнева, 2014; Васильева, 2016), базисные убеждения личности (Васильева, 2016), этнические факторы (Хвостова, 2013).
Психологическая диагностика расстройств ПП
К сожалению, ориентация современной отечественной психодиагностики, в том числе так называемой медицинской психодиагно-стики4 на адаптацию качественных зарубежных методик исследования особенностей ПП и внедрение их в активное использование как в прикладных, так и в исследовательских целях, полностью соответствует тенденциям только начального этапа развития психологической диагностики в нашей стране. И, несмотря на то, что в настоящее время актуальной задачей становится разработка качественного отечественного диагностического инструментария, в подавляющем своем большинстве в практике использования в клинических и исследовательских целях преобладают методики, являющиеся адаптированными вариантами созданных зарубежными коллегами тестов и иных психодиагностических методик.
Любая психодиагностическая методика должна проходить процедуру психометрической стандартизации и нормирования: проверку на соответствие требованиям репрезентативности, надежности и валидности, определение психометрических, статистических, популяционных, гендерных, возрастных и т. п. норм. Адаптация зарубежной методики на материале исследования той или иной популяции является не менее (а порой – и более) трудоёмким процессом, чем создание оригинальной методики. Она включает в себя несколько необходимых этапов: тщательное изучение теоретического конструкта, профессиональный перевод и формулирование стимульного материала переводного варианта теста, а также психометрическую проработку
Библиографические обзоры оригинального содержания методики, приспособление элементов лексики и грамматики к возрастной и образовательной структуре населения, для которого эта методика предназначена; учет коннотата стимульных языковых единиц и категорий; собственно психометрическую адаптацию опросника (анализ внутренней согласованности вопросов, проверка устойчивости при ретестировании, анализ корреляций с релевантным критерием и т. п.) и самое главное – рестандартизацию норм (Бур-лачук, 2006). Соответственно, каждая из зарубежных методик, адаптированных для русскоязычной выборки, должна содержать данные о надежности, валидности, дискримина-тивности и иные нормативные данные.
В отечественной психодиагностике батареи методик изучения особенностей пищевого поведения представлены достаточно ограниченным набором исследовательских методик, большинство из которых представляют собой переведенные на русский язык зарубежные опросники с разным уровнем их адаптации по классическим критериям психометрики. Характерно, что при знакомстве и анализе более чем 100 публикаций по описываемой проблеме авторам настоящей публикации не удалось найти данные о качественно проведённой процедуре стандартизации на российской выборке хотя бы одной распространенных за рубежом методик.
Вышеизложенное касается даже самой распространённой в общемировой практике методики – Голландского опросника пищевого поведения (Dutch Eating Behavior Questionnaire – DEBQ). Опросник был создан в 1986 г. (Van Strien, 1986) и валидизирован на 1170 респондентах, разделённых по полу и нали-чию/отсутствию ожирения. Методика позволяет оценивать пищевое питание по трём типам: эмоциогенному, экстернальному, ограничительному. Опросник имеет большое количество адаптированных версий в разных странах мира: Франции (Bailly, 2012), Китае (Wang, 2017; Wang, 2018), Испании (Cebolla, 2014), Мальте (Dutton, 2016) и др. В Российской Федерации опросник DEBQ был переведён на русский язык Т.Г. Вознесенской, но не был адаптирован и/или рестандартизи-рован в принятом в психометрике отношении (Батурин, 2012). В настоящее время имеются только нормативные значения по шкалам, убедительных данных о надежности и валидности нет.
Еще одним диагностическим инструментом, популярным в зарубежной практике, является трехфакторный опросник питания А. Стункарда (The three factor eating questionnaire – TFEQ, Stunkard, 1985). Опросник имеет трехфакторную структуру (результаты структурируются в три фактора/шкалы) и предназначен для оценки когнитивных и поведенческих аспектов питания: ограничение (склонность ограничивать потребление пищи для контроля веса и размеров тела), растормаживание (эпизоды потери контроля над пищевым поведением) и восприимчивость к голоду (внутреннее ощущение чувства голода и интенсивности тяги к еде). Опросник переведён на русский язык, но данных об адаптации/рестандартизации нет.
Большой интерес представляют две адаптированные и рестандартизированные на выборке жителей Республики Беларусь методики: скрининговая методика Eating Attitudes Test – 26 D.M. Garner (EAT-26) в адаптации О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи (имеющая в русскоязычном варианте название «Опросник пищевых предпочтений – 26» или «ОПП-26») и методика Eating Disorder Inventory (EDI) D.M. Garner, M.P. Olmstead и J.P. Polivy в адаптации О.А. Ильчик (адаптированный вариант – «Шкала оценки пищевого поведения» или «ШОПП»). Опросник ОПП-26 позволяет охарактеризовать особенности ПП на основании четырех выделенных факторов: «нарушения пищевого поведения», «самоконтроль пищевого поведения», «озабоченность образом тела» и «социальное давление в отношении пищевого поведения». Шкала оценки пищевого поведения (ШОПП) основана на семифакторной структуре: «Стремление к худобе», «Булимия», «Неудовлетворенность телом», «Неэффективность», «Перфекционизм», «Недоверие в межличностных отношениях», «Интероцептивная некомпетентность». Несмотря на русскоязыч-ность стимульного материала и имеющиеся качественные психометрические данные, возможность применения методики в России является дискуссионной из-за вопросов к релевантности структуры конструкта. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что из всего объёма диагностического материала для исследования ПП именно эти две методики являются наиболее приемлемыми для использования с позиций психометрики.
Таблица 2
Использование психодиагностических методик в отечественных исследованиях ПП
|
№ |
Частоты встречаемости упоминаний в источниках |
Наименование методики |
|
1 |
35 |
«Голландский опросник пищевого поведения» (DEBQ) |
|
2 |
11 |
Анкета (собственная разработка авторов) |
|
3 |
6 |
«Тест отношения к приёму пищи» (EAT-26) |
|
4 |
6 |
«Шкала оценки пищевого поведения» (EDI) |
|
5 |
4 |
Дневники самоконтроля |
|
6 |
4 |
Беседа (интервью) |
|
7 |
2 |
Анкета «Пищевое поведение» |
|
8 |
2 |
Трёхфакторный опросник Стункарда |
|
9 |
2 |
«Тест на особенности вашего пищевого поведения» |
|
10 |
2 |
CEBQ |
|
11 |
1 |
Другие методики |
Анализ 60 публикаций5 о результатах выполненных в нашей стране исследований ПП (табл. 2) показал, что абсолютное большинство их авторов (46 %) для оценки ПП у испытуемых используют только DEBQ либо применяют эту методику в сочетании с другими методами/методиками. Достаточной популярностью для измерения различных феноменов в области ПП пользуется метод анкетирования (15 % выборки исследований), клиническая беседа и дневниковый метод (по 5 % каждый). При этом остается достаточно проблематичным оценить, какой надёжностью характеризуются результаты таких экспериментов. Вероятно, именно отсутствие стандартизированных количественных шкал заставляет исследователей делать выбор в пользу качественных клинических (экспертных) методов исследования.
Другие, еще более редко используемые в исследованиях методики в большинстве своём характеризуются такими же особенностями:
это либо собственная разработка авторов (часто – без ссылки на лежащий в их основе теоретический конструкт), либо «переводной» вариант зарубежной методики, не прошедший полномасштабную процедуру адапта-ции/рестандартизации, включая нормирование результатов методики.
Анализ структуры исследований, выполненный путем поиска по ключевым словам, указанным в этих же 60 отечественных исследованиях (табл. 3), в той или иной степени связанных с изучением пищевого поведения, позволяет сделать несколько выводов.
Наиболее очевидным является исследовательский интерес к проблемам ПП и ожирения. При этом ожирение не рассматривается впрямую как расстройство ПП, но каузальная связь между этими феноменами в рецензируемых исследованиях очевидна. По этим данным переедание, синдром ночной еды, выбор пищевых продуктов с низким гликемическим индексом и высоким содержанием жиров являются основным фактором риска избыточного накопления жировой ткани в организме. По статистике ВОЗ, около 30 % населения мира в настоящее время имеют избыточную массу тела или страдают ожирением. Предполагается, что к 2025 г. ожирением будет страдать значительная часть населения планеты – до 40 % мужчин и 50 % женщин. Авторы большинства как отечественных, так и зарубежных исследований предлагают для профилактики и терапии алиментарного ожирения различные стратегии вмешательства, основанные на коррекции патологических форм ПП (Oda-Montecinos, 2013; Avsar, 2017; Demir, 2017; Фадеева, 2018).
Таблица 3
Частотность указания ключевых слов в отечественных исследованиях ПП
|
№ |
Значение частоты |
Ключевое слово |
|
1 |
23 |
Пищевое поведение |
|
2 |
13 |
Ожирение |
|
3 |
7 |
Ограничительное пищевое поведение |
|
4 |
6 |
Эмоциогенное пищевое поведение |
|
5 |
5 |
Экстернальное пищевое поведение, питание |
|
6 |
4 |
Нарушения пищевого поведения, дети |
|
7 |
3 |
Подростки, расстройство(а) пищевого поведения, типы пищевого поведения |
|
8 |
2 |
Компульсивное переедание, тревога, депрессия, молодой возраст, аддикция, индекс массы тела, пищевая зависимость, метаболический синдром |
|
9 |
1 |
Другие |
В ключевых словах, указанных в исследованиях ПП, также присутствует несколько указаний на возрастной период: дети, подростки, молодой возраст. Действительно, сенситивным периодом для развития расстройств ПП является ранний подростковый и юношеский возраст. Нервная анорексия и булимия почти исключительно поражают молодых людей, серьезно нарушая их физическое и психическое благополучие.
Представляется логичным, что описанные в большинстве публикаций исследования выполнены с использованием переводной версии методики DEBQ (Вахмистров, 2001; Смирнова, 2007; Волкова, 2007; Зав-ражных, 2008; Наймушина, 2008; Закс, 2009; Митрошина, 2010; Мищенкова, 2010; Салми-на-Хвостова, 2010; Завражных, 2011; Звенигородская, 2012; Хисматуллина, 2012а, 2012б; Соловьева, 2013; Третьяков, 2014; Кочемирова, 2014; Гадельшина, 2015; Каза-нина, 2015; Юдицкая, 2015; Ткаченко, 2015; Васильева, 2016; Миняйлова, 2017; Радаева, 2017; Панина, 2018; Проскурякова, 2018). Кроме того, существенную долю публикаций составляют описания исследований, в которых расстройства пищевого поведения изучались с помощью сочетания опросника DEBQ с другими методиками (Хвостова, 2005; Вербовой, 2008; Волкова, 2009; Захарченко, 2009; Каирова, 2009; Балаи, 2012; Хвостова, 2013; Толочкова, 2014; Хатыпова, 2015; Овчарова, 2016)
Описанные выше методические проблемы объясняют то, что вторая по частоте использования психодиагностическая технология представлена методами анкетирования и интервью (Вербовой, 2008; Волкова, 2009; Терещенко, 2010; Чугунова, 2012; Гурвич,
2012; Гмошинская, 2013; Печкуров, 2013; Салдан, 2014; Лемешко, 2015; Шакирова, 2015; Исаакян, 2015; Горюнова, 2016; Чуева, 2016; Пискун, 2017).
Значительно реже встречаются публикации с указанием на психологическую диагностику с помощью методики EAT-26 (Малкина-Пых, 2008, 2010; Захарченко, 2009; Коп-чак, 2009; Дурнева, 2014; Баулина, 2016). Использование других психодиагностических методик представлено фактически единичными публикациями, в частности: SCOFF (Вайнер, 2012), CEBQ (Прилуцкая, 2017; Юдиц-кая, 2014), ШОПП-EDI (Гладышев, 2014; Ха-тыпова, 2015).
Таким образом, одна из основных проблем в сфере психологической диагностики ПП заключается в отсутствии чётких и конкретных описательных критериев нормальных его вариантов, которые позволяют дифференцировать патологические и непатологические его формы, а также предпатологические феномены или популяционные группы риска развития таких расстройств.
Большое число клинических классификаций расстройств ПП, включающих в себя различные формы и варианты заболеваний, все же дает основания для возможности дифференцировать те или иные типы нарушений. В то же время отсутствие в профессиональном сообществе согласованности в представлениях о таксономической базе таких классификаций дают основания для дискуссий, споров и разногласий по поводу представленных в них диагностических категорий и критериев. Изменения, которые были внесены ВОЗ в проект МКБ-11, могут разрешить ряд проблем, существующих в области клинической диагностики расстройств ПП, поскольку, на- пример, новые категории могут быть применимы к разным возрастным группам населения, а диагноз «нервная анорексия» в новой редакции получил существенное уточнение по весовому и когнитивному критерию, появились относительно новые диагностические категории.
Область психологической диагностики расстройств ПП в России в настоящее время находится в периоде «депрессии». Подавляющее количество методик не могут быть использованы в практических и исследовательских целях, поскольку не соответствуют базовым требованиям психометрики. Качественная адаптация основных зарубежных методик и разработка принципиально нового диагностического материала могут ликвидировать эту методологическую проблему.
Статья выполнена за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения базовой части государственного задания (фундаментальное научное исследование) по договору № 19.8259.2017/БЧ.
Список литературы Вопросы квалификации и психологической диагностики пищевого поведения в норме и при его нарушениях
- Артемьева, М.С. Коморбидность нервной анорексии / М.С. Артемьева, Н.Г. Васильев // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке» (Серия медицина). - 2012. - Т. 14, № 1. С. 90-91.
- Балаи, М.В. Диагностика сверхранних признаков расстройств пищевого поведения у женщин / М.В. Балаи, А.Г. Жиляев // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». - 2012. - С. 233-239.
- Батурин, Н.А. Технология разработки психодиагностических методик: монография / Н.А. Батурин, Н.Н. Мельникова. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. - 2012. - 135 с.
- Баулина, М.Е. Социальная фрустрация у лиц с нарушением пищевого поведения / М.Е. Баулина // Архивъ внутренней медицины. Специальный выпуск. - 2016. - С. 102.
- Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. - СПб.: Питер. - 2006. - 351 с.
- Вайнер, А.Б. Экспресс-оценка расстройств пищевого поведения с использованием антропометрии / А. Б. Вайнер // Пермский медицинский журнал. - 2012. - Т. 29, № 5. - С. 116-119.
- Васильева, Е.А. Особенности базисных убеждений личности с нарушением пищевого поведения / Е.А. Васильева, Л.Г. Жедунова // Ярославский педагогический вестник. - 2016. - № 3. - С. 223-228.
- Вассерман, Л.И. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и обучение / Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова. - М.: Академия. - 2004. - 736 с.
- Вахмистров, А.В. Клинико-психологический анализ различных форм эмоциогенного пищевого поведения / А.В. Вахмистров // Альманах клинической медицины. - 2001. - С. 127-130.
- Вербовой, А.Ф. Анализ пищевого поведения больных сахарным диабетом и ожирением / А.Ф. Вербовой // Ожирение и метаболизм. - 2008. - № 3. - С. 27-30.
- Вознесенская, Т.Г. Расстройства пищевого поведения при ожирении и их коррекция / Т.Г. Вознесенская // Ожирение и метаболизм. - 2004. - № 2. - С. 2-6.
- Волкова, Г.Е. Динамика медиаторов энергетического обмена и пищевого поведения на фоне терапии ожирения / Г.Е. Волкова, Т.И. Романцова, Т.Г. Вознесенская, О.В. Роик // Ожирение и метаболизм. - 2009. - № 1. - С. 29-35.
- Волкова, Г.Е. Пищевое поведение у пациентов с ожирением / Г.Е. Волкова, Т.И. Романцова, Т.Г. Вознесенская, О.В. Роик // Ожирение и метаболизм. - 2007. - № 2. - С. 17-21.
- Гадельшина, Т.Г. Влияние психотерапевтического тренинга на пищевое поведение, копинг-стратегии и ситуативную тревожность у женщин с избыточной массой тела / Т.Г. Гадельшина // Вестник ТГПУ. - 2015. - Т. 156, № 3. - С. 90-95.
- Гладышев, О.А. Гиперфагические реакции в рамках расстройств пищевого поведения. Клинические особенности и терапия / О.А. Гладышев // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2014. - Т. 10, № 2. - С. 190-194.
- Гмошинская, М.В. Изучение пищевого поведения беременных женщин в Москве / М.В. Гмошинская, И.Я. Конь // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2013. - № 3. - С. 115-118.
- Горюнова, А.И. Особенности пищевого поведения беременных женщин / А.И. Горюнова // Специальный выпуск: материалы XIX международного конгресса «Здоровье и образование в XXI веке». - 2017. - Т. 19, № 12. - С. 102.
- Гурвич, И.Н. Психологическая детерминация пищевого поведения студенческой молодёжи / И.Н. Гурвич, Н.А. Антонова // Вестник СПбГУ. - 2012. - Сер. 12, вып. 2. - С. 42-47.
- Дурнева, М.Ю. Особенности использования копинг-стратегий у девушек с риском формирования нарушений пищевого поведения / М.Ю. Дурнева, Т.А. Мешкова // Теоретическая и экспериментальная психология. - 2014. - Т. 7, № 4. - С. 40-49.
- Завражных, Л.А. Значение психологических характеристик пациента для эффективного лечения метаболического синдрома / Л.А. Завражных, Е.Н. Смирнова // Клиницист. - 2011. - № 3. - С. 49-54.
- Завражных, Л.А. Особенности пищевого поведения у больных ожирением, получавших немедикаментозное лечение в условиях курорта «Усть-Качка» / Л.А. Завражных, Е.Н. Смирнова, Т.М. Зиньковская, А.Д. Голубев // Ожирение и метаболизм. - 2008. - № 4. - С. 49-52.
- Закс, Т.В. Особенности пищевого поведения у пациентов с сахарным диабетом / Т.В. Закс, Е.Н. Зотина // Вятский медицинский вестник. - 2009. - С. 9.
- Захарченко, В.М. Пищевое поведение у детей школьного возраста и влияющие на него факторы / В.М. Захарченко, В.П. Новикова, Ю.П. Успенский, и др. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. Медицина. - 2009. - Сер. 11, вып. 4. - С. 268-272.
- Исаакян, О.В. Опыт организации психолого-педагогического сопровождения подростков с нарушениями пищевого поведения (лишний вес) в общеобразовательных учебных заведениях / О.В. Исаакян, М.А. Лукьяненко // Инновационная наука. - 2015. - С. 153-159.
- Казанина, О.Н. Клинические, психологические и метаболические особенности детей с ожирением / О.Н. Казанина, Т.В. Карцева, И.М. Митрофанов и др. // Сибирский научный медицинский журнал. - 2015. - Т. 35, № 4. - С. 35-40.
- Каирова, М.Т. Психологические аспекты формирования компетентности в сфере пищевого поведения / М.Т. Каирова // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2009. - Сер. 12, вып. 1. - С. 295-299.
- Кибитов, А.О. Генетические исследования нарушений пищевого поведения: выход из замкнутого круга нозологической систематики / А.О. Кибитов, Г.Э. Мазо // Социальная и клиническая психиатрия. - 2016. - Т. 26, № 4. - С. 63-70.
- Копчак, О.Л. Влияние пищевого поведения на развитие артериальной гипертензии / О.Л. Копчак, Е.В. Барбакова // Вятский медицинский вестник. - 2009. - № 1. - С. 14.
- Кочемирова, Т.Н. Роль нарушений пищевого поведения, низкой физической активности, наследственной предрасположенности и возраста в формировании ожирения в различных этнических группах / Т.Н. Кочемирова, В.А. Кичигин, Т.Н. Маркова // Вестник Чувашского университета. - 2014. - № 2. - С. 276-280.
- Лемешко, А.В. Анализ пищевого поведения лиц с разным уровнем психического здоровья / А.В. Лемешко, Н.К. Артемьева // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - 2015. - Т. 36, № 3. - С. 83-92.
- Малкина-Пых, И.Г. Исследование влияния индивидуально-психологических характеристик на результаты коррекции пищевого поведения и алиментарного ожирения / И.Г. Малкина-Пых // Сибирский психологический журнал. - 2008. - № 30. - С. 90-94.
- Малкина-Пых, И.Г. Перфекционизм и удовлетворённость образом тела в структуре личности пациентов с нарушениями пищевого поведения и алиментарным ожирением / И.Г. Малкина-Пых // Экология человека. - 2010. - № 1. - С. 21-27.
- Менделевич, В.Д. Клиническая и медицинская психология: учебное пособие / В.Д. Менделевич. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. - 432 с.
- Миняйлова, Н.Н. Особенности и формы нарушения пищевого поведения у подростков с избыточным жироотложением / Н.Н. Миняйлова, Ю.И. Ровда, Ю.Н. Шишкова, И.В. Силантьева // Мать и дитя в Кузбассе. - 2017. - Т. 69, № 2. - С. 8-13.
- Митрошина, Е.В. Пищевое поведение у молодых мужчин с ожирением, манифестировавшим в пубертатный период / Е.В. Митрошина, А.Ф. Вербовой // Ожирение и метаболизм. - 2010. - № 3. - 31-33.
- Михайлова, А.П. Пищевое поведение в норме, в условиях стресса и при патологии: библиографический обзор / А.П. Михайлова, А.В. Штрахова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». - 2018. - Т. 11, № 3. - С. 80-95.
- Мищенкова, Т.В. Гендерные особенности гормонов пищевого поведения у больных с абдоминальным ожирением / Т.В. Мищенкова, Л.А. Звенигородская, Е.В. Ткаченко // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2012. - № 11. - С. 58-61.
- Мищенкова, Т.В. Роль гормонов и типов пищевого поведения в развитии метаболического синдрома / Т.В. Мищенкова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2010. - № 7. - С. 12-19.
- Наймушина, Е.С. Роль социально-психологических факторов в формировании пищевого поведения у подростков с ожирением / Е.С. Наймушина, М.Б. Колесникова, Н.И. Леонов // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». - 2008. - Т. 10, № 2. - С. 245-246.
- Овчарова, Р.В. Психологические особенности женщин с нарушениями пищевого поведения / Р.В. Овчарова // Вестник КГУ. - 2016. - № 2. - С. 91-97.
- Панина, Т.А. Оценка пищевого поведения у больных сахарным диабетом / Т.А. Панина // Эндокринология: новости, мнение, обучение. - 2018. - Т. 7, № 3. - С. 129-130.
- Печкуров, Д.В. Особенности физического развития, пищевого поведения и качества жизни детей с бронхиальной астмой / Д.В. Печкуров, Е.Н. Воронина, Г.Ю. Порецкова // Практическая медицина. - 2013. - Т. 75, № 6. - С. 122-126.
- Пискун, Т.А. Избирательный аппетит у детей / Т.А. Пискун, Т.В. Ануфриева, А.В. Головач, В.А. Прилуцкая // Педиатр. Спецвыпуск. - 2017. - Т. 8.
- Прилуцкая, В.А. Оценка особенностей пищевого поведения детей раннего возраста / В.А. Прилуцкая // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2017. - Т. 62, № 4. - С. 154.
- Проскурякова, Л.А. Темперамент как психологическая и психофизиологическая детерминанта пищевого поведения / Л.А. Проскурякова, Е.Н. Лобыкина // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2018. - № 1. - С. 153-159.
- Радаева, Д.Д. Особенности психологической реабилитации лиц с пищевой зависимостью / Д.Д. Радаева, В.В. Калашникова // Специальный выпуск: материалы XIX международного конгресса «Здоровье и образование в XXI веке». - 2017. - Т. 19, № 12. - С. 225-227.
- Ромацкий, В.В. Феноменология и классификация нарушений пищевого поведения (аналитический обзор литературы, ч. I) / В.В. Ромацкий, И.Р. Семин // Бюллетень сибирской медицины. - 2006. - № 3. - С. 61-69.
- Савенков, Ю.И. Избыточный вес - угроза здоровью / Ю.И. Савенков. - Барнаул: Алт. кн. изд-во. - 1985. - 72 с.
- Салдан, И.П. Гигиеническая оценка пищевого поведения родителей учащихся общеобразовательных учреждений Алтайского края / И.П. Салдан, С.П. Филиппова, О.В. Околелова // Гигиена питания. - 2014. - № 5. - С. 38-39.
- Салмина-Хвостова, О.И. Психологический тренинг в профилактике пищевого поведения среди студентов г. Новокузнецка / О.И. Салмина-Хвостова, И.С. Салмина // Тюменский медицинский журнал. - 2010. - № 1. - С. 58-59.
- Салмина-Хвостова, О.И. Расстройства пищевого поведения при ожирении (эпидемиологический, клинико-динамический, реабилитационный аспекты) / О.И. Салмина-Хвостова // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. - 2009. - № 5. - С. 19-29.
- Скугаревский, О.А. Нарушения пищевого поведения: монография / О.А. Скугаревский. - Минск: БГМУ. - 2007. - 340 с.
- Смирнова, Я.К. Особенности эмоционально-волевой сферы женщин с избыточной массой тела, ведущие к нарушению лечебной диеты / Я.К. Смирнова, О.М. Любимова // Вестник Марийского государственного университета. - 2007. - Т. 11, № 4. - С. 91-97.
- Соловьева, А.В. Факторы риска формирования нарушений пищевого поведения у лиц с избыточной массой тела и ожирением / А.В. Соловьева // Медицинский альманах. - 2013. - Т. 30, № 6. - С. 178-180.
- Терещенко, И.В. Типы нарушений пищевого поведения при ожирении у женщин Пермского региона / И.В. Терещенко, П.Е. Каюшев // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. - 2010. - Т. 8, № 1. - С. 72.
- Ткаченко, Н.В. Нейроэндокринные сдвиги у девочек-подростков с избыточной массой тела и овариальной дисфункцией в зависимости от типа нарушения пищевого поведения / Н.В. Ткаченко, В.О. Андреева, В.Г. Заика и др. // Детская андрология и эндокринология. - 2015. - № 5. - С. 73-85.
- Толочкова, А.О. Влияние личностных особенностей и самоотношения женщин на доминирующий стиль пищевого поведения / А.О. Толочкова, Н.Э. Вишневая // Психология в экономике и управлении. - 2014. - № 2. - С. 30-37.
- Третьяков, С.В. Некоторые особенности пищевого поведения женщин пожилого возраста при ожирении / С.В. Третьяков // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. - 2014. - С. 83.
- Ухер, Р. Классификация расстройств приема пищи: обзор доказательных данных и предложения для МКБ-11: пер. с англ. / Р. Ухер, М. Раттер // Мировая психиатрия. - 2012. - Вып. 11, № 2. - С. 80-92
- Фадеева, М.И. Коррекция нарушений пищевого поведения у пациентов с ожирением / М.И. Фадеева, Л.В. Савельева, Ю.Ю. Голубкина и др. // Эндокринология: новости, мнения, обучение. - 2018. - Т. 7, № 2. - С. 51-59.
- Хатыпова, А.С. Взаимосвязь нарушений пищевого поведения и представлений подростков об их родителях / А.С. Хатыпова // Вопросы студенческой науки. - 2018. - Вып. 5, № 21. - С. 23-26.
- Хвостова, О.И. К вопросу коррекции экстернального пищевого поведения / О.И. Хвостова // Вятский медицинский вестник. - 2005. - №3-4. - С. 29-32.
- Хвостова, О.И. К вопросу пищевого поведения телеутов Кузбасса (психологические, гигиенические аспекты) / О.И. Хвостова, Т.В. Калашникова, Е.Н. Лобыкина // Вестник ВолгГМУ. - 2013. - Т. 45, вып. 1. - С. 104-106.
- Хисматуллина, Г.Я. Оценка пищевого поведения у лиц молодого возраста с патологией желчевыводящей системы при сочетании с избыточным весом / Г.Я. Хисматуллина, Л.В. Волевач // Медицинский вестник Башкортостана. - 2012. - Т. 7, № 4. - С. 10-13.
- Хисматуллина, Г.Я. Современные подходы в лечении заболеваний билиарной патологии у лиц молодого возраста с ожирением / Г.Я. Хисматуллина, Л.В. Волевач, Г.А. Хакамова и др. // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2012. - № 4. - С. 60-65.
- Чугунова, О.В. Анализ пищевого поведения учащихся Екатеринбурга / О.В. Чугунова, Н.В. Заворохина // Техника и технология пищевых производств. - 2012. - № 4. - С. 1-4.
- Чуева, Е.Н. Особенности эмоционального состояния и внутрисемейных отношений девушек, склонных к ограничительному типу пищевого поведения / Е.Н. Чуева // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. - 2016. - Т. 28, № 2. - С. 37-45.
- Шабанова, A.A. Диагностика личностных особенностей пациентов с нарушениями пищевого поведения / А.А. Шабанова, М.Г. Виноградова, В.В. Кошелев // Архивъ внутренней медицины. Специальный выпуск. - 2016. - С. 101-102.
- Шакирова, А.Т. Особенности пищевого поведения школьников города Казани / А.Т. Шакирова, Р.А. Файзуллина // Практическая медицина. - 2015. - Т. 92, № 7. - С. 68-71.
- Юдицкая, Т.А. Комплексная характеристика типов пищевого поведения у подростков / Т.А. Юдицкая, Я.В. Гирш // Journal of Siberian Medical Sciences. - 2015. - № 6. - С. 1-10.
- Юдицкая, Т.А. Сравнительная характеристика пищевого поведения у детей дошкольного возраста с различной массой тела, проживающих в городе и области / Т.А. Юдицкая // Journal of Siberian Medical Sciences. - 2014. - № 5. - С. 1-9.
- Avsar, O. Are dopaminergic genotypes risk factors for eating behavior and obesity in adults? / O. Avsar, A. Kuskucu, S. Sancak, E. Genc // Neuroscience Letters. - 2017. - Vol. 4. - P. 1-17.
- DOI: 10.1016/j.neulet.2017.06.023
- Bailly, N. The Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ). Assessment of eating behaviour in an aging French population / N. Bailly, I. Maitre, M. Amanda et al. // Appetite. - 2012. - Vol. 59. - P. 853-858.
- DOI: 10.1016/j.appet.2012.08.029
- Birmingham, C.L. The mortality rate from anorexia nervosa / C.L. Birmingham, J. Su, J.A. Hlynsky et al. // International Journal of Eating Disorders. - 2005. - Vol. 38, no. 2. - P. 143-146.
- DOI: 10.1002/eat.20164
- Cebolla, A. Validation of the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) in a sample of Spanish women / A. Cebolla, J.R. Barrada, T. van Strien et al. // Appetite. - 2014. - Vol. 73. - P. 58-64.
- DOI: 10.1016/j.appet.2013.10.014
- Demir, D. The effect of childrens' Eating Behaviors and parental feeding style on childhood obesity / D. Demir, M. Bektas// Eating Behaviors. - 2017. - Vol. 26. - P. 137-142.
- DOI: 10.1016/j.eatbeh.2017.03.004
- Dutton, E. Validation of the Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) among Maltese women / E. Dutton, T.M. Dovey // Appetite. - 2016. - Vol. 107. - P. 9-14.
- DOI: 10.1016/j.appet.2016.07.017
- Laviano, A. Changes in eating behavior, taste and food preferences and the effects of gastrointestinal hormones / A. Laviano, L.Di. Lazzaro, A. Koverech // Clinical Nutrition Experimental. - 2018. - Vol. 20. - P. 65-70.
- DOI: 10.1016/j.yclnex.2018.06.002
- Oda-Montecinos, C. Eating behaviors are risk factors for the development of overweight / C. Oda-Montecinos, C. Saldaña, A. Andrés // Nutrition Research. - 2013. - Vol. 33, no. 10. -P. 796-802.
- DOI: 10.1016/j.nutres.2013.07.013
- Opwis, M. Gender differences in eating behavior and eating pathology: The mediating role of rumination / M. Opwis, J. Schmidt, A. Martin, C. Salewski // Appetite. - 2016. - Vol. 110. -P. 103-107.
- DOI: 10.1016/j.appet.2016.12.020
- Papadopoulos, F.C. Excess mortality, causes of death and prognostic factors in anorexia nervosa / F.C. Papadopoulos, A. Ekbom, L. Brandt, L. Ekselius // British Journal of Psychiatry. - 2009. - Vol. 194, no. 1. - P. 10-17.
- DOI: 10.1192/bjp.bp.108.054742
- Stunkard, A.J. The three-factor eating questionnaire to measure dietary restraint, disinhibition and hunger / A.J. Stunkard, S. Messick // Journal of Psychosomatic Research. - 1985. - Vol. 29, no. 1. - P. 71-83.
- Van Strien, T. The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior / T. Van Strien, E.R. Jan, P.A. Gerard, P.B. Defares // Eathing Disorders. - 1986. - Vol. 5, no. 2. - P. 295-315.
- DOI: 10.1016/j.appet.2013.10.014
- Wang, Y.-F. Psychometric properties of the Chinese version of the Dutch Eating Behavior Questionnaire in a sample of Taiwanese parents / Y.-F. Wang, S. Ha, J.A. Zauszniewski, R. Ross // Obesity Research & Clinical Practice. - 2017. - Vol. 12, no. 1. - P. 129-132.
- DOI: 10.1016/j.orcp.2017.11.005
- Wang, Y.-F. Translation and psychometric analysis of the Chinese version of the Dutch Eating Behavior Questionnaire for Children (DEBQ-C) in Taiwanese preadolescents / Y.-F. Wang, H.-L. Chuang, C.-W. Chang, J.A. Zauszniewski // Journal of Pediatric Nursing. - 2018. - Vol. 39. - P. 30-37.
- DOI: 10.1016/j.pedn.2018.01.009