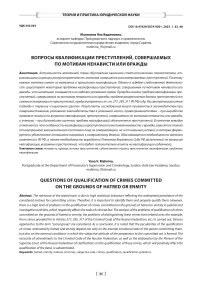Вопросы квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды
Автор: Малинина Яна Вадимовна
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (71), 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность заявленной темы обусловлена высокими статистическими показателями, отражающими широкую распространенность мотивов совершения рассматриваемых преступлений. Поэтому важное значение имеет их выявление и правильная квалификация. Однако в судебно-следственной деятельности существуют некоторые проблемы квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды, что негативно сказывается на задачах уголовного права. Проведен анализ проблем квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды; проблем разграничения данных преступлений от смежных (например от преступлений, предусмотренных ст. ст. 277, 295, 317 УК РФ) и др. Рассмотрены различные подходы к термину «социальная группа». Результаты исследования могут применяться законодателем при совершенствовании уголовного законодательства в указанной части, правоприменителями - при выработке правовых позиций по вопросам квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды, и учеными - при дальнейшем изучении проблем квалификаций обозначенных преступлений. В качестве выводов отмечается, что особенности квалификации преступлений по мотивам ненависти и вражды, зависят не только от внутреннего эмоционального состояния лица их совершающего, но и от внешних условий, в которых формируется субъективное отношение виновного к совершенному деянию. Обосновывается необходимость внесения изменений в УК РФ, а также необходимость выработки Пленумом Верховного Суда РФ разъяснений по вопросам квалификации указанных преступлений, что будет положительно влиять на квалификацию содеянного.
Ненависть, вражда, мотивы преступлений, субъективная сторона, преступления, квалификация, проблемы квалификации
Короткий адрес: https://sciup.org/14128068
IDR: 14128068 | УДК: 343.953 | DOI: 10.47629/2074-9201_2023_1_43_48
Текст научной статьи Вопросы квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды
Д еятельность любого человека, как правило, связана с мотивационной направленностью. Мотив – определенное побуждение, вызывающее у лица решимость совершить общественно опасное деяние. Существуют различные классификации мотивов преступлений. Наиболее распространенными и крайне специфическими выступают мотивы ненависти или вражды. Но в силу их особенностей и определенных обстоятельств (малоизученности, неосознанности их виновными) правильно определить мотив преступления зачастую затруднительно.
Однако юридической гарантией, позволяющей назначить виновному, совершившему преступления по мотивам ненависти или вражды, справедливое наказание, выступает их правильная квалификация. Процесс квалификаций данных преступлений связан с правовой оценкой преступного деяния.
Точная квалификация позволяет и верно отразить в статистической отчетности состояние, структуру и динамику преступлений, создает предпосылки для выявления их тенденций и разработки эффективных мер предупреждения. Однако нередко в правоприменительной практике возникают вопросы квалификации, обусловленные их мотивационной направленностью, несовершенством конструирования уголовно-правовых норм (нечеткая формулировка, большое количество оценочных признаков [15, с. 472]) и недостаточностью исследования учеными, поскольку рассмотрение квалификации данных преступлений сводятся исследователями только к экстремистским преступлениям. Но преступления, совершаемые по мотивам ненависти или вражды, – это различные преступления, посягающие на общественные отношения, и которые по своей природе носят мотивационный окрас, то есть лица, их совершающие, в основе своего преступного поведения имеют некие негативные установки, проникнутые ненавистью и злобой к потерпевшим. Поэтому следует выявить и исследовать вопросы квалификации всех преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды, и разработать концептуальные основы уголовной ответственности за их совершение.
Проблемы квалификации рассматриваемых составов преступлений непосредственно обусловлены их мотивационной направленностью. Возникают трудности в понимании оценочных обстоятельств, являющихся криминообразующими признаками основных и квалифицированных составов преступлений «побои», «иные насильственные действия», «обезображивание», «честь», «достоинство», «жестокое обращение», мотивы «расовая, национальная, религиозная ненависть и вражда», «социальная группа», «экстремизм», «экстремистская деятельность» и др.
Пленумом Верховного Суда РФ в п. 16 постановления от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» четко установлены правила квалификации исследуемых преступлений. Однако в судебно-следственной практики нередко имеется занижение или завышение квалификации, обуславливаемые, в том числе формальным подходом правоприменителя к установлению обстоятельств совершенного преступления. Так, если убийство было совершено в отношении лица, который другой расы, национальности или исповедывает другую религию, то оно квалифицируется по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Например, П. убил И., который был иной чем П. национальности. Суд содеянное квалифицировал по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но с данной позицией не согласился адвокат П., который утверждал, что его подзащитный лишил жизни И. не поскольку он является представителем иной нации, а поскольку между ними возникла ссора на бытовой почве. Но Верховный Суд РФ рассматривая жалобу указал, что суд первой инстанции верно установил мотив совершения преступления, поскольку действия П. были направлены на лицо нерусской национальности [2].
Такой подход является неприемлемым и для квалификации содеянного судебно-следственным органам необходимо тщательно устанавливать обстоятельства совершенного преступления. По мнению Верховного Суда РФ, при ограничении мотивов экстремисткой направленности от мотива ненависти, возникшего на почве личных отношений, следует учитывать: длительность межличностных отношений виновного с потерпевшим; наличие с последним конфликтов, не связанных с национальными, религиозными, идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к той или иной расе, социальной группе [11]. Данного подхода придерживаются и иные суды общей юрисдикции, а также органы предварительного расследования, что верно, однако их отсутствие не всегда будет свидетельствовать об отсутствии мотива ненависти, возникшей на почве личных отношений, поскольку виновный с потерпевшим могут иметь недлительные межличностные отношения или не иметь иных конфликтов, но из ненависти, возникшей на почве личных отношений, виновный может убить потерпевшего. Например, З. совершил убийство У., из личной неприязни, ненависти, возникшей на почве ссоры, образовавшейся в процессе спора о цене, за выполненную работу по ремонту валенок [12].
Высказанное суждение подтверждается позицией ученых. По мнению Ф.З. Велиева, указанное обстоятельство не позволяет в полной мере определить мотив совершенного преступления (экстремистский или иной). Данный ученый полагает, что это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, является неясным о каком периоде времени идет речь для определения длительности или не длительности межличностных отношений. Во-вторых, нередко судебно-следственные органы при совершении виновным уголовно-наказуемого деяния по экстремистским мотивам не учитывают его при квалификации содеянного, ссылаясь на то, что между потерпевшим и виновным имелись длительные межличностные отношения [6, с. 52]. Это верно, поэтому не всегда наличие длительных межличностных отношений свидетельствуют об отсутствии экстремистских мотивов.
Также не всегда свидетельствует об отсутствии экстремистских мотивов и отсутствие между виновным и потерпевшим конфликтов, не связанных с национальными, религиозными, идеологическими, политическим взглядами, равно как и наоборот, наличие данных конфликтов не всегда свидетельствует о том, что преступление совершено по экстремистским мотивам.
Поэтому важно установить обстоятельства преступления, свидетельствующие о неприязненном отношении не к конкретному человеку, а к определенной идеологии, расе, религии или социальной группе, представляемой потерпевшим, при которой личность потерпевшего не имеет значения, поскольку он лишь персонифицирует и олицетворяет враждебные виновному социальные общности [7, с. 324], а именно: взаимоотношения сторон до начала и во время конфликта; постриминальные поведения виновного и потерпевшего; отношение лица к совершенному деянию; взаимоотношения между виновным и потерпевшим; вид конфликта между ними (социальный, личный [10, с. 34]) и так далее. Главное, чтобы виновный, испытывая ненависть или вражду, совершая преступление, перекладывал ее на конкретного представителя.
Некоторые ученые указывают, что о наличии экстремистского мотива свидетельствуют и высказы-вания,допущенные виновным в момент совершения преступления [13, с. 129–130, 134]. Верно, высказывания виновного в процессе совершения общественно опасного посягательства не могут указывать на неприязненные отношения не к конкретному человеку, а к определенной расе, национальности, религии, социальной группе, представителем которых является потерпевший, но это не всегда является гарантией того, что преступление было совершено именно по экстремистским мотивам. Так, например, суд изменил приговор, исключив из квалификации экстремистский мотив, поскольку им в процессе рассмотрения уголовного дела было установлено, что убийство было совершено на бытовой почве из-за ссоры виновного с потерпевшим, а оскорбительное высказывание виновного в момент совершения уголовно-наказуемого деяния в отношении потерпевшего «Чурка» при том, что отсутствуют иные данные, подтверждающие, совершение преступление по экстремистским мотивам, не может служить основанием для вменения виновному квалифицированного убийства, совершенного по экстремистскому мотиву [14].
Сложность при квалификации изучаемых преступлений вызывает их отграничения от преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений, что также приводит к квалификационным ошибкам и назначению виновному наказания, не соответствующего общественной опасности совершенного им деяния. К этому привели общие признаки обозначенных мотивов (например, они направлены не на конкретного индивида, а на общество; посягают на различные общественные отношения; личность потерпевшего для виновного не значения и так далее).
Имеются случаи, когда ненависть или вражда выражаются в действиях, присущих хулиганским побуждениям. Не так давно судебно-следственные органы крайне неохотно инкриминировали виновным экстремистские мотивы, предпочтение отдавали хулиганским побуждениям.
Хулиганский мотив многолик. Он отличается от мотивов ненависти или вражды тем, что, во-первых, его основой для совершения преступления служит незначительный повод, в то время как для ненависти – сильное негативное чувство конкретного человека, а для вражды – конкретные негативные действия, состояния, проникнутые неприязнью, ненавистью.
Во-вторых, преступления, совершаемые из хулиганских побуждений иррациональные, виновное лицо получает удовлетворение от самого процесса совершения преступления, чем от конкретного результата [5, с. 93–94]. В то время как преступления по мотивам ненависти или вражды – рациональные, преступник получает удовлетворение от того, на что посягает (жизнь, здоровье и так далее).
В-третьих, детерминантной хулиганских побуждений является стремление виновного продемонстрировать свое явное неуважение к обществу, требованиям морали; бросить вызов общественному порядку; противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение, а мотивов ненависти или вражды – посягнуть на объект ненависти или вражды.
В-четвертых, мотивы ненависти или вражды, возникшие на почве личных отношений, формируются в процессе межличностных отношений, а хулиганский мотив – нет.
В-пятых, человек, исходя из мотивов ненависти или вражды, действует избирательно, а повод для совершения общественно опасного деяния не является для виновного незначительным. В то время как для людей, совершаемых преступления из хулиганских побуждений избирательность не присуща и повод для его совершения незначителен. Кроме того, виновный из мотивов ненависти или вражды направляет свои действия не на все общество, а на определенную его часть. Однако несмотря на вышеуказанные различия между исследуемыми мотивами преступлений правоприменитель неверно устанавливает мотив и квалифицирует содеянное.
Ранее в правоприменительной практике имелись случаи, когда виновному вменялся как мотив ненависти или вражды, так и хулиганский мотив, поскольку человеческое поведение – полимотивирова-но, в связи с чем преступления могут быть обусловлены несколькими мотивами, один из которых доминирующий.
Суждение о доминирующем мотиве преступления распространено в науке уголовного права [4, с. 116]. Этой позиции придерживается и Пленум Верховного Суда РФ. Казалось бы, все ясно и трудностей на практике быть не должно.
Но позиция правоприменителя ставит перед судебно-следственными органами крайне сложную задачу: выбора одного мотива из нескольких [1, с. 27]. В связи с чем ученые ставят под сомнения нынешнюю редакцию ст. 213 УК РФ. Поэтому они предлагают исключить из ст. 213 УК РФ указание на мотивы ненависти или вражды, аргументируя нивелированием сути хулиганства, а также логически неверным построени-емуголовно-правовой нормы[13, с. 125–126, 129, 132].
Проблемы в судебно-следственной практике вызывает и термин «социальная группа», поскольку не выработаны его правовые признаки, позволяющие идентифицировать ту или группу людей социальной. Поэтому имеются различные позиции ученых и судебно-следственных органов, что негативно влияет на привлечении лица к уголовной ответственности и назначению справедливого наказания или иных мер уголовно-правового характера.
Так, анализ практики показал, что к социальной группе правоприменителями относились различные общности лиц: казачье общество; представители власти; иммигранты, мигранты; антифашисты; патриоты России; банкиры международного уровня, представители государственной власти РФ и СССР; лица, происхождения «русские»; не исповедующие ислам; не мусульмане; представители ЛГБТ; федеральные государственные служащих; Сотрудники ФСБ России, сотрудники полиции и др.
Существуют суждения об исключении термина «социальная группа» из диспозиций уголовно-правовых норм, поскольку, посягательства, обусловленные признаком социальной группы, влияют на незыблемость основ конституционного строя и безопасность государства; термин «социальная группа» является слишком размытым и широким [3, с. 509]; и не соответствует принципу правовой определённости. Верно, данный термин является широким, размытым и не определенным, что порождает различные суждения у ученых и правоприменителей, но его исключение будет являться неверным, поскольку негативно отразится на смысловой нагрузке рассматриваемых мотивов. Поэтому необходимо сформулировать и закрепить дефиницию указанного термина.
Дефиниция – это точное логическое определение, содержащее наиболее существенные признаки определяемого предмета. Она занимает особое место в юридической технике, поскольку позволяет четко отграничить один предмет от иного (смежного). Это положительно отразится на квалификации содеянного, поскольку судебно-следственные органы будут иметь четкое представление о границах обозначенного термина.
Не всегда правоприменители верно разграничивают преступления, совершенные по мотивам ненависти или вражды, от преступлений, совершенных в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом своей служебной деятельности. Проблема их разграничения заключается в том, что последние могут характеризоваться теми же прилагательными, что и мотив ненависти или вражды, особенно экстремистский.
Подобная проблема возникает и при разграничении преступлений, совершенных по исследуемым мотивам и преступлений, предусмотренных ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ. Это обусловлено, во-первых, тем, что нередко судебно-следственные органы относят вы-шеобозначенные категории лиц к социальной группе. Во-вторых, месть и ненависть – взаимно порождаемые чувства, которые на практике довольно сложно разграничить между собой.
Неоднозначно в правоприменительной практике решается вопрос о вменении п. «е» ч. 2 ст. 63 УК РФ при совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ. Одни судебно-следственные органы полагают, что вменение п. «е» ч. 2 ст. 63 УК РФ является необходимым, поскольку экстремистские мотивы в составе преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ неявляются криминообразующими.Другие совершенно не согласны с такой позицией, аргументируя ч. 2 ст. 63 УК РФ. Полагаем, что верна вторая позиция, поскольку преступления, предусмотренные ст. 280 УК РФ по мнению законодателя и правоприменителя относятся к преступлениям экстремисткой направленности и п. «е» ч. 2 ст. 63 УК РФ содержит указание на экстремистский мотив.
Имеются проблемы и отграничения мотива ненависти от мотива вражды. Не установив истинный мотив совершения преступления, невозможно применить к осужденному конкретные меры, направленные на его исправление, формирование правопослушного поведения, купирование его дальнейшей преступной деятельности. Обозначенное обусловлено тем, что законодательно их дефиниции не установ- лены, а в теории уголовного права решение данного вопроса является дискуссионным несмотря на то, что законодатель при конструировании уголовно-правовых норм указывает обозначенные мотивы через разделительный союз «или».
По мнению С.М. Кочои, несмотря на то, что на законодательном уровне рассматриваемые мотивы указаны через разделительный союз «или» они являются за тем или иным исключением идентичными. Принципиальная разница между данными мотивами преступлений отсутствует[8]. Подобную позицию относительно соотношения исследуемых мотивов высказывает А.А. Кунашев, обосновывая свое суждение тем, что в основе ненависти или вражды заложено чувство ненависти [9, с. 21].Использование разделительного союза действительно не всегда свидетельствует о различиях в терминах (это может быть ошибкой юридической техники), но между чувством (ненавистью) и действием (враждой) существенная разница. Чувство – способность ощущать, воспринимать внешние воздействия; действие – проявление какой-либо энергии во вне.
В основе вражды может быть заложено чувство ненависти, однако вражда может базироваться и на иных чувствах (например, на ревности, зависти, злобе и др.), что также подтверждает самостоятельность указанных мотивов.
Таким образом, особенности квалификации преступлений по мотивам ненависти и вражды зависят не только от внутреннего эмоционального состояния лица их совершающего, но и от внешних условий, в которых формируется субъективное отношение виновного к совершенному деянию. В судебно-следственной деятельности продолжает оставаться высокий уровень проблем квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды. Во многом это связано с тем, что у правоприменителей нет четкого понимания обозначенных мотивов, отграничения от иных (смежных), а изыскания ученых в данной части сводятся только к преступлениям, совершаемым по мотивам политической идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Отмеченные вопросы диктуют необходимость разработки и внесений изменений в УК РФ, а также выработки Пленумом Верховного Суда РФ разъяснений в указанной части, что будет положительно влиять на квалификацию содеянного.
Список литературы Вопросы квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти или вражды
- Антонян Ю.М. Мотивация преступного поведения // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (Саратовские уголовно-правовые чтения). 2019. С. 27–32.
- Апелляционное определение СК по уголовным делам Верховного Суда от 15 января 2018 года № 1-АПУ14-18 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
- Бешукова З.М. Механизм уголовно-правового противодействия экстремистской деятельности: содержание, структура, основные направления оптимизации: дис. … док-ра юрид. наук. Краснодар, 2020. 632 с.
- Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: учебно-практическое пособие. М.: Зерцало-М, 2008. 255 с.
- Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М.: Юрид. лит., 1977. 239 с.
- Велиев Ф.З. Мотив ненависти или вражды и его уголовно-правовое значение: дис … канд. юрид. наук. М., 2015. 232 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / под ред. В.В. Малиновского. М.: Контракт, 2011. 1107 с.
- Кочои С.М. Мотив национальной, расовой религиозной и иной ненависти в статьях УК РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sartraccc.ru (дата обращения: 20.07.2022).
- Кунашев А.А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 252 с.
- Платошкин Н.А. Уголовно-правовое значение хулиганских мотивов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 192 с.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 (с изм и доп. от 28 октября 2021 года) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.
- Приговор Иркутского областного суда от 15 апреля 2017 года № 2-42/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
- Соловьёва С.В. Преступления, совершаемые по мотивам ненависти или вражды: вопросы квалификации, пенализации и назначения наказания: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. 195 с.
- Уголовное дело № 22к-4895 // Архив Московского областного суда.
- Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. 1184 с.