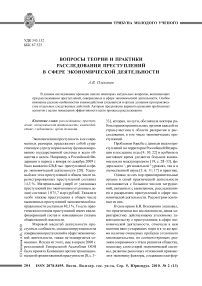Вопросы теории и практики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
Автор: Плеханов А.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Трибуна молодого ученого
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
В данном исследовании проведен анализ некоторых актуальных вопросов, возникающих при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Особое внимание уделено особенностям взаимодействия следователя и органа дознания при производ- стве отдельных следственных действий. Автором предложены варианты решения проблемных аспектов с целью повышения эффективности всего процесса расследования.
Расследование, преступление, экономическая деятельность, взаимодействие, следователь, орган дознания
Короткий адрес: https://sciup.org/14972720
IDR: 14972720 | УДК: 343.132
Текст научной статьи Вопросы теории и практики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
Экономическая преступность в ее современных размерах представляет собой существенную угрозу нормальному функционированию государственной системы и всего общества в целом. Например, в Российской Федерации в период с января по декабрь 2009 г. было выявлено 428,8 тыс. преступлений в сфере экономической деятельности [20]. Удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений составил 14,3 %. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 1 075,7 млрд рублей. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 40,3 %. То есть практически половина преступлений имеет квалифицирующий состав и повышенную степень общественной опасности.
Мировой масштаб деятельности преступных сообществ, специализирующихся на совершении преступлений в сфере экономической деятельности, также не подвергается сомнению. Исходя из этого, еще в апреле 2000 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности [8, с. 3–
33], которая, по сути, обозначала векторы работы правоохранительных органов каждой из стран-участниц в области раскрытия и расследования, в том числе экономических преступлений.
Проблемам борьбы с данным видом преступлений на территории Российской Федерации в последние годы [4; 10; 22] и особенно в настоящее время уделяется большое внимание как на международном [19, с. 28–33], федеральном 1, региональном 2 уровнях, так и в отечественной науке [3; 6; 11; 17] и практике.
Однако до сих пор правоохранительные органы в своей практической деятельности сталкиваются с большим числом затруднений, связанных с выявлением, расследованием и раскрытием преступлений в сфере экономической деятельности. Рассмотрим основные из них.
В свое время Б.В. Волженкин указывал, что практически все исследователи, давая характеристику действующему уголовному законодательству о преступлениях в сфере экономической деятельности, отмечали в нем наличие явно устаревших норм и в то же время наличие очевидных пробелов уголовного законодательства, не соответствующих реалиям современного этапа развития общества, поскольку слом старой экономической системы, развитие рыночных отношений привнесли в экономику факторы, создавшие платфор- му для совершения новых, не известных экономике общественно опасных деяний, затрагивающих интересы собственников, нарушающих принципы свободного, честного и безопасного предпринимательства, экономические интересы государства [2, с. 73].
В настоящее время ситуация кардинальным образом не изменилась. Во избежание вышеуказанной проблемы нормы статей стали меняться в сторону того, чтобы максимально не содержать каких-либо экономических терминов, категорий и определений. С одной стороны, это целесообразно, прежде всего, с точки зрения разумности и оптимальности (например, в течение нескольких лет по многим составам произошел постепенный отказ от привязки к минимальному размеру оплаты труда при определении крупного и/или особого крупного размеров совершения преступления). С другой стороны, существенную проблему для правоприменителя стали составлять бланкетные нормы, достаточно усложненные законодательной техникой их регламентации. При расследовании многих преступлений в сфере экономической деятельности (таких как невозвращение средств в иностранной валюте, легализация преступных доходов, налоговые преступления и др.) появляется необходимость в изучении сложных схем преступной деятельности, требующем значительных познаний в области финансового, таможенного, налогового права, а также внешнеэкономической деятельности, менеджмента и маркетинга. И поэтому следователю часто (а это большие затраты времени, средств и т. д.) приходится обращаться за консультациями, разъяснениями, советами или в иных формах пользоваться услугами лиц, обладающих специальными познаниями в указанной области.
В связи с этим неординарное решение предложила Н.Ф. Кузнецова. По ее мнению, для того чтобы бланкетность норм не приводила к смешению преступлений и правонарушений, а не уголовно-правовые нормы не диктовали тексты норм Уголовного кодекса Российской Федерации, нужно, во-первых, в диспозициях уголовно-правовых норм привести точное наименование нарушаемых правил; а во-вторых, тексты этих специальных правил в извлечениях, необходимых для квалифика- ции, поместить в приложения к Уголовному кодексу Российской Федерации. А чтобы бланкетность не девальвировала уголовноправовые нормы, при кодификации следует предельно четко выделять в диспозициях последних признаки состава преступления. При этом должны соблюдаться как минимум два правила: четкая формулировка в диспозициях норм Уголовного кодекса Российской Федерации бланкетных правил и указание на собственно уголовно-правовой признак. Еще лучше, если перечень данных признаков будет приведен в приложении к Уголовному кодексу Российской Федерации, как это делалось в кодексах 1922 и 1926 гг. [9, с. 20].
Если с первым из вышеназванных предложений можно согласиться ввиду наличия рационального зерна, то второе можно признать не только противоречащим первому, но и нецелесообразным, исходя из мотивов изменений. Ведь включение приложений такого характера к Уголовному кодексу Российской Федерации повлечет за собой еще большую путаницу (из-за сильной частоты изменения законодательства в области экономики) и создаст громоздкую систему. А это уже никак не будет способствовать заявленной цели – совершенствованию процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Потому что излишняя законодательная регламентация правонарушений экономического характера приведет к формализации. Кроме того, оставление в законодательной формулировке места для судебно-следственного усмотрения по применению конкретной уголовно-правовой нормы грозит опасностью разнохарактерного толкования закона, что может привести к грубым нарушениям принципов законности и равноправия граждан перед законом.
Данные некоторых исследований [7, с. 43] свидетельствуют о том, что при опросе следователей 20 % из них указали на наличие особенностей (читай, трудностей. – А. П.) квалификации данных преступных посягательств в связи с наличием специального субъекта; 34 % следователей связали сложность квалификации со спецификой проявления субъектной стороны рассматриваемых преступлений; 67 % следователей указали на специфику проявления объективной стороны данных пре- ступлений 3. Действительно, высокий уровень образованности субъектов преступления, а также сложный, многоэтапный механизм преступного деяния обеспечивают высокий уровень латентности данных преступлений и усложняют проведение уголовно-правового анализа совершенных действий. В связи с этим решающая роль в повышении эффективности выявления, расследования и раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности должна отводиться организации международного и внутриведомственного сотрудничества и взаимодействия правоохранительных органов.
Эффективность взаимодействия в процессе раскрытия и расследования любых преступлений в целом и экономических в частности зависит от того, насколько их специфическая деятельность (оперативно-розыскная и следственная) должным образом скоординирована [12; 18; 21].
Координация следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может способствовать формированию стабильных связей (например, в форме планирования), что позволит решать вопросы развития форм взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Взаимодействие следователя и оперативных работников может осуществляться в различных формах. Одни авторы, рассматривая формы взаимодействия, не подразделяли их на какие-либо группы [1]. Другие называют организационно-правовые формы взаимодействия, или процессуальные и организационные, либо процессуальные и непроцессуальные (организационно-тактические). Некоторые авторы выделяют процессуально-правовые и организационно-тактические [5, с. 79–84], либо организационно-управленческие и организационно-тактические [13, с. 170], или подразделяют их на «внешние» и «внутренние» формы взаимодействия [16, с. 49–50].
Проблема взаимодействия правоохранительных органов между собой и с иными государственными органами в процессе расследования экономических преступлений неоднократно поднималась в научной литературе [14], однако на практике существенных изменений пока не наблюдается.
С учетом изменения уголовно-процессуального и дополнения оперативно-розыскного законодательства РФ, специфики исследуемой категории дел, развивая существующие классификации, можно выделить следующие основные формы взаимодействия следователя и оперативных работников: 1) процессуальные (правовые) и 2) непроцессуальные.
-
I. Процессуальные (правовые) формы взаимодействия предусмотрены уголовнопроцессуальным законом, характеризуются наличием определенных процессуальных отношений в процессе расследования и осуществляются в основном следующим образом:
-
1. Совместная работа следователя с органом дознания по делу с начала расследования.
-
2. Выполнение оперативными работниками письменных поручений и указаний следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий и производстве отдельных следственных действий
-
3. Участие в следственном действии оперативного работника.
-
4. Взаимодействие при производстве предварительного следствия в рамках следственной группы.
-
II. Непроцессуальные формы взаимодействия неразрывно связаны с процессуальными, вытекают из них, но имеют в организации взаимодействия самостоятельное значение.
-
1. Создание постоянно действующих следственно-оперативных групп для раскрытия и расследования экономических преступлений является наиболее эффективной и отвечающей потребностям практики формой организации, позволяющей успешно разрешать проблемные и конфликтные ситуации и создавать благоприятные условия функционального и информационного сотрудничества следователя и оперативных работников.
-
2. Совместное и согласованное планирование помогает обеспечить четкое разграничение функций, прав и обязанностей следователя и оперативных работников.
-
3. Согласованное выдвижение следственных и оперативно-розыскных версий.
-
4. Постоянный обмен информацией между следователем и оперативными работниками.
Названные формы взаимодействия носят условный характер, поскольку, с одной сторо- ны, некоторые непроцессуальные формы могут быть закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве и тогда будут носить процессуальный характер. С другой стороны, все они, независимо от закрепления их в законе, выполняют функции координации и согласования взаимодействия и наполнены организационно-управленческим содержанием.
Затронутые в настоящем исследовании вопросы представляются нам одними из первостепенных, оказывающих существенное влияние на эффективность всего процесса выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Вместе с тем следует отметить, что предложенные выводы и предложения не претендуют на истину в последней инстанции, но, напротив, дают основание для дальнейшей научной дискуссии по предложенным аспектам.