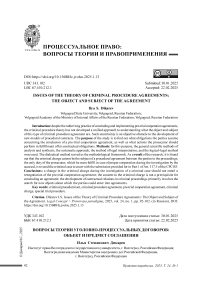Вопросы теории уголовно-процессуальных договоров: объект и предмет соглашения
Автор: Дикарев И.С.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: несмотря на довольно длительную практику заключения и реализации досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовно-процессуальной теории, не выработано единого подхода к пониманию того, что является объектом и предметом данной разновидности уголовно-процессуального договора. Такая неопределенность выступает объективным препятствием к разработке новых моделей процессуальных договоров. Цель исследования состоит в том, чтобы выяснить, какие обязательства принимают на себя в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве стороны, а также, какие именно действия должен совершить прокурор во исполнение своих договорных обязательств. Методы: для этого применялись общенаучные методы анализа и синтеза, системный подход, методы юридической интерпретации и логико-юридический. Методологической базой послужил диалектический метод. В результате исследования удалось выяснить, что обвинение не может выступать объектом процессуального договора между сторонами судопроизводства, единственная обязанность прокурора, которую он должен исполнить в случае надлежащего содействия расследованию со стороны обвиняемого, – направить уголовное дело в суд с представлением, предусмотренным ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ. Выводы: изменение обвинения в ходе расследования уголовного дела не должно влечь за собой перезаключение досудебного соглашения о сотрудничестве; согласие с предъявленным обвинением не является обязательным условием заключения соглашения; развитие договорных отношений в уголовном судопроизводстве предполагает прежде всего отыскание новых объектов, по поводу которых стороны могли бы вступать в соглашения.
Уголовно-процессуальный акт, уголовно-процессуальный договор, досудебное соглашение о сотрудничестве, обвинение, особый порядок судебного разбирательства
Короткий адрес: https://sciup.org/149148175
IDR: 149148175 | УДК: 343.102 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2025.1.13
Текст научной статьи Вопросы теории уголовно-процессуальных договоров: объект и предмет соглашения
DOI:
Вступая в договорные отношения, лицо всегда преследует определенную цель – приобрести некое благо, получить которое оно может в результате совершения другой стороной определенных действий (бездействия). В этом отношении уголовно-процессуальные договоры ничем не отличаются от гражданско-правовых: они также имеют собственный объект и предмет, правильное определение которых исключительно важно как для реализации уже имеющихся, так и для конструирования законодателем новых уголовно-процессуальных договоров.
Вопрос об объекте и предмете договора достаточно разработан наукой гражданского права, в связи с чем нет никакой необходимости «изобретать велосипед» в уголовно-процессуальной теории: имеющиеся разработки вполне приложимы к договорам, заключаемым в уголовном процессе. Д.И. Мейер писал о том, что «предметом договора всегда предоставляется право на чужое действие, и притом действие возможное физически и нравственно» [10, c. 516]. Современные ученые-цивилисты сходятся во мнении, что объектом договора является благо, ради получения которого стороны заключают договор, а пред- метом – действие (воздержание от действий), совершаемое сторонами по поводу данного блага [4, с. 60; 5, с. 125].
Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает только один вид процессуального договора, оформляемого как самостоятельный процессуальный акт, – досудебное соглашение о сотрудничестве (далее – ДСС, соглашение). В связи с этим для разработки общих вопросов теории уголовно-процессуального договора, которая могла бы стать базой для дальнейшего развития договорных отношений в уголовном судопроизводстве, приходится довольствоваться весьма ограниченным исследовательским полем. Однако и на этом небольшом поле еще очень много работы: в юридической науке до сих пор не выработано единого подхода к пониманию объекта и предмета ДСС, а без определенности в этом вопросе двигаться дальше, то есть предлагать модели новых процессуальных договоров, весьма затруднительно.
Договорные обязательства стороны защиты по ДСС
Приведенное в п. 61 ст. 5 УПК РФ легальное определение ДСС вносит мало ясности в определение объекта и предмета этого соглашения. Более того, оно создает предпосылки для неправильного определения предмета рассматриваемого процессуального договора, о чем будет сказано ниже. Более информативными в этом отношении являются положения гл. 40.1 УПК РФ, делающие акцент на действиях подозреваемого или обвиняемого. Уже в ходатайстве о заключении ДСС сторона защиты должна указать на готовность совершить конкретные действия в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). Такие действия и составляют основное содержание ДСС, что совершенно естественно, поскольку именно в содействии, которое сторона защиты окажет предварительному следствию, законодатель видит цель и смысл вступления в договорные отношения. И если действия подозреваемого или обвиняемого составляют предмет ДСС, то объектом его, то есть тем самым «благом», которое стремится получить от договора сторона обвинения, очевидно, выступает успешное раскрытие и расследование преступлений.
Законодатель оставляет определение предмета соглашения на усмотрение сторон (п. 6 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ). В этой связи вполне допустимым представляется предусматривать в ДСС освобождение подозреваемого или обвиняемого, если он на этом настаивает, от обязанности совершать в интересах расследования те или иные действия. Например, лицо может заявить о несогласии давать показания в отношении конкретного соучастника или по какому-то эпизоду преступной деятельности. И если такие условия устраивают сторону обвинения, то такая позиция подозреваемого или обвиняемого не может препятствовать заключению ДСС, а результаты сотрудничества должны оцениваться с учетом обозначенных в соглашении исключений. Вообще, стороны, по нашему мнению, не должны ограничиваться в возможности согласовывать любые условия ДСС: только такой подход соответствует диспозитивной природе уголовно-процессуального договора.
Дискуссия о договорных обязательствах стороны обвинения
Сложнее решается вопрос о том, какие действия или блага со стороны обвинения получает взамен сотрудничества со следствием подозреваемый или обвиняемый. Некоторые ученые придерживаются позиции о том, что прокурор по ДСС вообще не принимает на себя никаких обязательств. Как пишет О.В. Климанова, «действия, зачастую принимаемые за обязательства прокурора... по своей сути не являются таковыми» [6, с. 16]. К.Ф. Багаутдинов полагает, что прокурор не принимает на себя никаких обязательств и не может давать никаких гарантий, заключая ДСС. Единственное исключение составляет принятие мер, направленных на обеспечение безопасности лица, которое может рассматриваться в качестве обязанности прокурора [3, с. 117]. Однако, вряд ли обязанность прокурора по принятию мер безопасности можно рассматривать в качестве договорной, ведь такие меры применяются не в обмен на содействие, а при наличии к тому предусмотренных законом оснований. Другими словами, принимать меры безопасности в отношении подозреваемого или обвиняемого при наличии к тому оснований сторона обвинения обязана независимо от того, заключено со стороной защиты ДСС или нет.
Раскрывая в легальном определении, содержащемся в п. 61 ст. 5 УПК РФ, понятие ДСС, законодатель указывает, что в этом процессуальном акте стороны «согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого». Думается, именно это положение закона послужило отправной точкой для распространения среди ученых мнения о том, что в предмет ДСС включаются нормы уголовного права. Одними из первых такой подход обозначили в своей работе А.С. Александров и И.А. Александрова, которые пришли к выводу, что «цели соглашения о сотрудничестве, которые могут преследовать стороны, таковы: 1) раскрытие новых преступлений, изобличение других преступников, розыск имущества; 2) применение нормы, смягчающей ответственность обвиняемого» [2, с. 4]. Вариациями такого подхода являются позиции Е.Л. Федосеевой о том, что в обмен на сотрудничество обвиняемый рассчитывает «на указание прокурором в соглашении норм уголовного законодательства, которые могут быть применены судом в случае выполнения им соглашения» [16, с. 12], а также Д.Н. Ста-цюка, включающего в предмет ДСС наряду с содействием следствию со стороны обвиняемого также «смягчающие обстоятельства и нормы уголовного закона, которые к нему могут быть применены» [13, с. 51–52].
Несмотря на то что данный подход основан на положении п. 61 ст. 5 УПК РФ, он представляется спорным, что, в свою очередь, служит основанием сомневаться в корректности самого легального определения ДСС. Дело в том, что стороной ДСС выступает прокурор, который в судебном разбирательстве, по итогам которого будут решаться вопросы об уголовной ответственности и наказании, занимает положение лишь одной из сторон. В силу п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание вправе только суд. Соответственно, прокурор не вправе принимать на себя какие-либо обязательства, связанные с применением норм уголовного закона, а значит, подобные действия выходят за пределы предмета ДСС в силу его субъектного состава.
Является ли объектом ДСС обвинение?
Что действительно зависит от прокурора, так это квалификация совершенного обвиняемым деяния и объем предъявленного обвинения, повлиять на которые он может в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном гл. 31 УПК РФ, – в случае несогласия с выводами органа расследования относительно квалификации или объема обвинения прокурор вправе возвратить уголовное дело следователю. В этой связи возникает вопрос: может ли прокурор, заключая ДСС, принимать на себя обязательства относительно квалификации преступления и объема предъявленного обвинения? Другими словами, может ли обвинение выступать объектом, а действия стороны обвинения по его изменению или прекращению – предметом договора?
Надо сказать, что сторонников положительного решения данного вопроса среди ученых-процессуалистов немного. В частности, О.В. Климанова считает возможным отнести к обязательствам прокурора по ДСС «вопрос о квалификации преступления, которую он вправе определять и обеспечивать ее сохранение» [6, с. 16]. В.А. Лазарева и Ю.В. Кувалдина полагают, что на этапе заключения ДСС сторона обвинения может сделать «некоторые уступки в определении объема и квалификации преступления в том обвинении, которое будет... предъявлено» [9, с. 225].
Большинство же исследователей придерживаются в этом вопросе противоположной позиции. Как верно отмечает А.В. Смирнов, в ДСС прокурор не может указывать заведомо менее тяжкое по сравнению с действительностью преступление, в котором будет обвиняться пошедшее на сотрудничество лицо [12, с. 12]. Не могут быть предметом ДСС и обязательства стороны обвинения о его изменении в сторону смягчения [3, с. 115]. По мнению В.В. Колесник, обвиняемого следует уже при заключении ДСС предупреждать о том, что сторона обвинения не связана обязанностью оставить в неизменном виде то обвинение, при котором заключается соглашение [8, с. 102].
Но если обвинение не является объектом ДСС, то и отношение к нему обвиняемого не должно составлять предмета рассматриваемого соглашения. Другими словами, согласие с предъявленным обвинением не может de jure рассматриваться в качестве обязательного условия заключения ДСС. Не случайно о согласии с предъявленным обвинением в гл. 40.1 УПК РФ впервые упоминается только в ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, регламентирующей действия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением. Такое согласие выступает одним из условий рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (далее – ОПСР), а значит, и внесения прокурором представления, предусмотренного ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ. Таким образом, на этапе направления уголовного дела в суд согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением de facto приобретает значение условия сохранения действия ДСС в ходе судебного производства. В этой связи следует согласиться с выводом Е.Л. Федосеевой о необходимости разъяснения подозреваемому и обвиняемому при заключении с ним ДСС, что согласие с предъявленным обвинением является необходимым условием вынесения приговора в порядке гл. 40.1 УПК РФ [16, с. 17].
Не придавать согласию с обвинением значения условия заключения ДСС важно прежде всего в практическом отношении. Думается, что обеим сторонам выгоднее иметь возможность вступать в договорные отношения, не будучи связанными признанием обвиняемым своей вины. А если принять во внимание возможность заключения ДСС и с подозреваемым, то такое требование оказалось бы вообще неисполнимым (вследствие отсутствия сформулированного обвинения). Предпочтительнее, когда подозреваемый или обвиняемый имеет возможность сначала заключить ДСС, а уже после решать для себя вопрос целесообразности продолжения сотрудничества с учетом предъявленного ему обвинения, признавая свою вину или отрицая ее. Вполне возможно, что под влиянием собранных стороной обвинения доказательств обвиняемый в конце концов придет к выводу о том, что отпираться бессмысленно, так что, если к этому времени сотрудничество уже будет осуществляться, обе стороны соглашения от этого только выиграют.
О необходимости перезаключения ДСС в случае изменения обвинения
Если объем обвинения и квалификация преступления не составляют объект ДСС, то и изменение обвинения в ходе предварительного расследования или при производстве в суде первой инстанции никаких правовых последствий для реализации соглашения иметь не должно. В этой связи представляется непоследовательной позиция авторов, которые, с одной стороны, не относят обвинение к объекту ДСС, а с другой – считают необходимым перезаключать ДСС в случае изменения объема обвинения или квалификации преступления. Так, например, Г.В. Абшилава, справедливо замечая, что событие преступления и его квалификация не могут быть предметом соглашения, далее говорит о новации – соглашении сторон о замене первоначального обязательства другим: «Изменение обвинения влечет необходимость заключения нового соглашения и признания юридически ничтожным предыдущего» [1, с. 137]. А.В. Смирнов также считает, что при возникновении необходимости изменения обвинения в худшую для обвиняемого сторону, следователь и прокурор должны предложить стороне защиты внести соответствующие изменения в ранее заключенное ДСС [12, с. 12]. Еще более сложную процедуру предлагает А.В. Травников: следователь в ходе допроса выясняет, признает ли обвиняемый себя виновным по вновь предъявленному обвинению и согласен ли продолжать сотрудничество, а затем ходатайствует перед прокурором о прекращении ранее заключенного соглашения и ставит вопрос о заключении нового соглашения [15, с. 111].
Примечательно, что на протяжении продолжительного времени и в судебной практике преобладал подход, согласно которому изменение обвинения в ходе предварительного расследования должно влечь за собой перезаключение ДСС. Суды исходили из того, что объем и квалификация обвинения, указанного в ДСС, должны совпадать с обвинением, сформулированным в обвинительном заключении. Так, например, президиум Самарского областного суда по одному из уголовных дел, рассмотренных в кассационном порядке, расценил вменение обвиняемому новых эпизодов преступной деятельности как «изменение договора в одностороннем порядке в сторону ухудшения положения одного из участников соглашения» и пришел к выводу, что согласно ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ прокурору надлежало составить новое ДСС (см.: Постановление Президиума Самарского областного суда от 16.05.2019 № 44У-127/2019. URL: . Очевидно, что именно для искоренения из судебной практики этого ошибочного подхода в 2021 г. Пленум Верховного Суда РФ внес в п. 15 Постановления от 28.06.2012 № 16 (см.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. 2012. 11 июля) следующее до- полнение: «Отсутствие в досудебном соглашении о сотрудничестве указания на все преступления, в которых обвиняется подсудимый, не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ, при условии согласия подсудимого с обвинением в полном объеме» (см.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 22 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // Российская газета. 2021. 16 июля). Данное разъяснение служит веским подтверждением правильности вывода о том, что обвинение не является объектом ДСС, а значит, изменение его объема или квалификации преступления, независимо от того, влечет ли это ухудшение или улучшение положения стороны защиты, на действие ДСС никак не влияет. Соответственно, никаких дополнительных активностей в случае изменения объема обвинения или квалификации ни следователю, ни прокурору совершать не следует. Единственная и важнейшая гарантия прав обвиняемого здесь заключается в том, что ему должно быть разъяснено и понятно значение согласия с предъявленным обвинением как условия применения ОПСР и постановления приговора по правилам ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ.
Обязательства прокурора по досудебному соглашению о сотрудничестве
Итак, проведенное исследование показало, что в предмет ДСС не могут входить обязательства прокурора, связанные с применением норм уголовного закона или с определением объема обвинения и квалификации преступления. В связи с этим возникает вопрос, что же предлагается обвиняемому его контрагентом (стороной обвинения) взамен на осуществляемое им содействие раскрытию и расследованию преступлений? Правильный ответ на этот вопрос дает Т.В. Топчиева: «В случае выполнения обвиняемым или подозреваемым своих обязательств прокурор обязан вынести представление, предусмотренное ст. 317.5 УПК РФ, ... являющееся основанием для применения судом положений ч. 2 ст. 62
УК РФ» [14, с. 8]. Именно так, ни больше, ни меньше. Конечно, для подозреваемого или обвиняемого главное при заключении ДСС – это снижение наказания, ради которого он и идет на сотрудничество. Однако, как было показано выше, снижение наказания не является объектом ДСС, поскольку достижение такого результата не может быть обеспечено действиями прокурора – назначение наказания относится к компетенции суда. В связи с этим законодатель и выстраивает сложную конструкцию, в которой достижение искомого стороной защиты результата происходит опосредованно – через применение ОПСР. Разбираться в этих тонкостях подозреваемому или обвиняемому вовсе не обязательно, но для процессуалистов, будь то ученые или практики, принципиально важно отдавать себе отчет в том, что объектом ДСС как процессуального договора является именно применение ОПСР. Соответственно обязательства прокурора, составляющие предмет ДСС, ограничиваются совершением действий, обеспечивающих применение по уголовному делу такого порядка, то есть направлением уголовного дела в суд с представлением, указанным в ст. 317.5 УПК РФ. Именно обязанность внесения такого представления и составляет встречное (производное) обязательство, превращающееся в процессуальную обязанность прокурора в случае соблюдения стороной защиты условий и выполнения обязательств, указанных в ДСС. То, что данное обязательство не прописывается в тексте ДСС, не должно сбивать с толку. Думается, закрепление договорных обязательств непосредственно в законе является одной из тех особенностей, которые неизбежно привносит в процессуальные договоры публичное начало уголовного судопроизводства.
В юридической литературе можно встретить мнение о том, что лицу, с которым заключается ДСС, не следует гарантировать снижение наказания судом [17, с. 37–38]. На это А.Б. Сергеев справедливо возражает: «Благодаря соглашениям с обвиняемыми государство повысило эффективность выполнения обязанности искоренять преступность... почему бы нам сразу не довести до сведения этого человека те блага, которые он получит в случае полной отдачи в этом сотрудниче- стве?» [11, с. 132]. Думается, аналогично рассуждал и законодатель, предусматривая включение в текст ДСС указания на смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены по уголовному делу при соблюдении стороной защиты условий и выполнении обязательств, указанных в ДСС (п. 7 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ). Поскольку данное указание не имеет отношения к объекту ДСС, следует прийти к выводу, что его значение – чисто мотивирующее: подозреваемый или обвиняемый должен четко представлять, какие именно льготы будут к нему применены, если уголовное дело будет рассмотрено судом в ОПСР, и что применение такого порядка напрямую зависит от соблюдения обвиняемым условий и выполнения им обязательств, указанных в ДСС.
Перспективы развития уголовно-процессуальных договоров на основе определения новых объектов
Развитие договорных отношений в уголовном судопроизводстве предполагает прежде всего отыскание новых объектов, по поводу которых стороны могли бы вступать в соглашения. В настоящее время в этом направлении усилия исследователей сосредоточены в основном на поиске возможностей включения в объект договорных отношений, во-первых, обвинения, во-вторых, подлежащих установлению по уголовному делу фактов. Так, например, В.В. Колесник в своей докторской диссертации предлагает признать относительной связь между событием преступления (как оно произошло в действительности) и предъявляемым обвинением, что позволило бы заключать соглашения относительно не только объема обвинения, но также уголовно-правовой квалификации, размера и вида возможного наказания, вплоть до «процессуальной декриминализации деяния», а в сфере доказывания – признать договорной способ установления фактов по уголовному делу [7, с. 21, 63, 65, 109, 355]. Называя указанные направления конвергенции частного и публичного права в сфере уголовного судопроизводства наиболее перспективными, В.В. Колесник в то же время отдает себе отчет в их небесспорном характере [7, с. 94]. Действительно, рассчитывать на то, что в ближайшее время доктрина уголовно-процессуального права и законодатель признают возможным отказаться от цели установления объективной истины по уголовным делам, а также найдут способы предотвращения злоупотреблений, неизбежных в условиях столь широкой сферы усмотрения обвинителя, не приходится. В этой связи встает вопрос: означает ли это исчерпанность возможностей дальнейшего развития договорных отношений в сфере уголовного судопроизводства? Думается, нет.
Весьма перспективным представляется поиск возможностей договорного регулирования уголовно-процессуальных отношений между обвиняемым (подозреваемым) и потерпевшим. При этом следует принять во внимание следующие общие положения:
– предметом процессуального договора могут быть только такие действия, совершение которых составляет для лица, отстаивающего в уголовном деле личный интерес, право, но не процессуальную обязанность;
– процессуальный договор носит условный характер, когда обязательства одной стороны являются первичными, а второй стороны – производными. Исполнение первичного обязательства служит основанием для исполнения производного обязательства, вследствие чего последнее приобретает значение процессуальной обязанности;
– для придания процессуальному договору юридического значения и обеспечения законности при его заключении такой договор должен утверждаться субъектом, ведущим уголовный процесс.
В качестве одного из оснований применения ОПСР закон называет отсутствие возражений у частного обвинителя или потерпевшего (п. 3 ч. 2 ст. 314 УПК РФ). Такое право возражения позволяет потерпевшему заблокировать применение дифференцированной формы судебного разбирательства, обеспечивающей обвиняемому возможность получения предусмотренной ч. 7 ст. 316 УПК РФ льготы при назначении наказания. Полагаем, что законодатель, наделяя потерпевшего таким правом, преследовал цель стимулировать обвиняемого к позитивному посткриминальному поведению, выражающемуся, помимо прочего, в возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением. Другими словами, действующая регламентация «подталкивает» обвиняемого сделать все возможное для того, чтобы у потерпевшего не было оснований возражать против применения по уголовному делу ОПСР.
Однако даже полное возмещение причиненного преступлением вреда не лишает потерпевшего права заявить возражения против применения ОПСР, вследствие чего у обвиняемого снижается мотивация к позитивному посткриминальному поведению, что ставит под угрозу реализацию назначения уголовного судопроизводства.
Выходом из сложившегося положения могла бы стать возможность заключения между обвиняемым (подозреваемым) и потерпевшим в ходе досудебного производства соглашения, по которому обвиняемый (подозреваемый) принимал бы на себя обязательство в установленный срок возместить причиненный преступлением вред в размере, определяемом сторонами, а потерпевший, в случае выполнения стороной защиты принятого на себя обязательства, – не возражать против применения ОПСР.
Объектом процессуального договора для обвиняемого в данном случае выступала бы возможность применения по уголовному делу ОПСР, а предметом – бездействие потерпевшего, выражающееся в незаявлении им возражений против применения такого порядка. Для потерпевшего объектом договора будет являться возмещение причиненного преступлением вреда в размере, определяемом соглашением, а предметом – действия обвиняемого (подозреваемого), направленные на возмещение такого вреда. При этом обязательство обвиняемого (подозреваемого) является первичным, а обязательство потерпевшего производным: в случае полного возмещения вреда незаявление возражения со стороны потерпевшего становится процессуальной обязанностью последнего.
Контроль со стороны лиц, ведущих производство по уголовному делу, в данном случае должен выражаться в следующем. Во-первых, такие соглашения, составляемые в письменной форме как отдельный процессуальный акт, подлежат утверждению следова- телем (как вариант – руководителем следственного органа) или дознавателем (как вариант – прокурором). При этом отказ в утверждении соглашения должен подлежать обжалованию в порядке, предусмотренном ст. 124 и 125 УПК РФ. Во-вторых, в случае исполнения первичного обязательства, то есть возмещения обвиняемым (подозреваемым) причиненного преступлением вреда, заявлению потерпевшим возражения против применения ОПСР (в нарушение условий процессуального договора) не должно придаваться юридического значения, то есть оно не должно приниматься во внимание прокурором и судом при решении вопроса о рассмотрении уголовного дела в ОПСР.
Думается, что законодательное закрепление такого рода процессуального договора способствовало бы достижению назначения уголовного процесса, поскольку стимулировало бы обвиняемого к полному и быстрому возмещению вреда, причиненного преступлением.
Выводы
Вопросы определения объекта и предмета являются ключевыми в теории уголовнопроцессуальных договоров, поскольку именно те действия, которые стороны могут совершить в интересах друг друга ради достижения определенного юридически значимого результата, предопределяют саму необходимость введения в ткань уголовного судопроизводства договорного способа регулирования уголовно-процессуальных правоотношений. Объектом договора является некоторое благо, приобретаемое стороной в случае его исполнения. Применительно к ДСС такими благами являются: для стороны обвинения – содействие (по сути, помощь) подозреваемого или обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления, а для стороны защиты – применение ОПСР, обеспечивающее льготу при назначении наказания. Предметом процессуального договора является действие (бездействие), совершаемое одной стороной для получения другой искомого блага. Предмет ДСС составляют действия подозреваемого или обвиняемого при производстве следственных действий, а также вынесение прокурором представления, предусмотренного ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ. Наличие двух объектов в процессуальном договоре раскрывает его фактическую сущность, состоящую в своего рода «обмене»: каждая сторона выполняет действия (бездействует) ради приобретения другой стороной искомого блага. Особенностью таких договоров является то, что обмен происходит не одновременно: обязательства одной из сторон всегда являются первичными, другая сторона исполняет свои обязательства только при условии выполнения первичного обязательства.