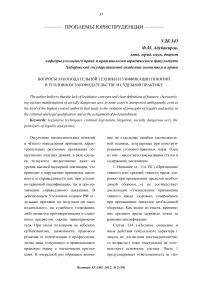Вопросы законодательной техники и унификации понятий в уголовном законодательстве и судебной практике
Автор: Абубакиров Ф.М.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Автор считает, что отсутствие законодательных концепций и четких определений признаков, характеризующих различные проявления общественно опасных действий, в некоторых случаях интерпретируется неоднозначно даже на уровне высшего органа управления, что приводит к нарушению принципов законности и справедливости в уголовной и правовой квалификации и при назначении справедливого наказания.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319702
IDR: 14319702
Текст научной статьи Вопросы законодательной техники и унификации понятий в уголовном законодательстве и судебной практике
Отсутствие законодательных понятий и чёткого определения признаков, характеризующих различные проявления общественно опасных деяний, в ряде случаев толкуются неоднозначно даже на уровне высшей надзорной инстанции, что приводит к нарушению принципов законности и справедливости как при уголовно-правовой квалификации, так и при назначении справедливого наказания. В действующем Уголовном кодексе РФ отдельные признаки не получили ни законодательного, ни судебного толкования, либо являются противоречивыми и становятся предметом оценки правоприменителя. При таком положение не избежать субъективизма, зависимости правового решения от компетенции и профессионализма лица, толкующего и применяющего правовую норму с оценочными признаками. В очередной раз обращаем внима- ние на отдельные ошибки законодательной техники, допущенные при конструировании уголовно-правовых норм. Одна из них – несоответствие названия статьи и содержания диспозиции.
-
1. Название ст. 114 УК («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны…») не соответствует диспозиции «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны». Как видно из текста, причинение среднего вреда здоровью лежит за рамками квалификации.
-
2. Бесспорным, с точки зрения законодательной техники является применение имеющихся в кодексе понятий. Например, при определении пределов наказания за групповые преступления законодатель использует точные формулировки. Согласно ч. 7 ст. 35 УК РФ, «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечёт более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом». В п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК тоже используются определённые в законе
Статья 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») тоже текстуально не соответствует основному составу. Часть 1 предусматривает ответственность за «по- ловое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершённые лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Названные в диспозиции действия раскрыты в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. «Под половым сношением следует понимать совершение полового акта между мужчиной и женщиной, под мужеложством сексуальные контакты между мужчинами, под лесбиянством – сексуальные контакты между женщинами. Под иными действиями сексуального характера следует понимать удовлетворение половой потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта путём применения насилия или угрозы его применения»[1]. Буквальное толкование употребляемых в диспозиции ст. 134 УК терминов исключает иные действия сексуального характера. Допущенные при конструировании несоответствия логичнее устранить, нежели применять расширительное толкование.
формы совместной преступной деятельности, убийство, «совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
В то же время законодатель усложнил правоприменителю задачу при квалификации по ч. 4 ст. 151 УК, используя оценочный признак – вовлечение несовершеннолетнего в «преступную группу». В Общей части такого родового понятия нет. Возникает вопрос: какие формы соучастия включает преступная группа? Только разновидности соисполнительства (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору) и сложного соисполни-тельства (организованная группа и преступная организация (преступное сообщество)), раскрытые в ст. 35 УК РФ, охватывает сложное соучастие с распределением ролей? В юридической литературе исследуемый вопрос решается неоднозначно. В постановлении Пленума данный признак не раскрывается. Рассмотрим несколько примеров противоречия уголовного законодательства и судебной практики нормативного характера.
-
1. В статьях Общей части УК РФ предусмотрены две формы множественности: совокупность и рецидив. Причём последняя, не влияя на квалификацию, учитывается при назначении наказания, определения вида исправительного учреждения осуждённым к лишению свободы и ряде других случаях. Неоднократность из Общей части УК РФ исключена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Соответственно утратили силу в статьях Особенной части квалифицирующие признаки, характеризующие данную форму множественности. Такой шаг
-
2. Известно, что совокупность исключается, если второе общественно опасное деяние предусмотрено в качестве квалифицирующего обстоятельства. Например, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК в качестве особо отягчающего обстоятельства предусматривает «умышленное причинение смерти человеку» при террористическом акте, поэтому при убийстве даже нескольких лиц при террористическом акте дополнительной квалификации по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК не требуется [3]. Часть 4 ст. 111 УК охватывает причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и не требует квалификации причинения тяжкого вреда, причинённого здоровью человека, повлекшего смерть по неосторожности, по совокупности. Обратимся к разъяснениям нормативного характера, определяющим правила квалификации при совокупности преступлений. «Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по пункту «з» части второй статьи 105 УК РФ, а также по пункту «в» части четвёртой статьи 162 УК РФ» [4]. Такое же разъяснение дано применительно к убийству, сопряжённому с вымогательством [5], изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера [6]. Предложенная уголовноправовая оценка противоречит:
– принципу справедливости, в соответствии с которым «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление»;
– ч. 1 ст. 17 УК РФ, где прописано, что совокупность преступлений исключается
в случаях, «когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Заметим, что исключение из понятия совокупности преступлений введено федеральными законами от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, то есть через год после опубликования постановления ПВС РФ № 29 от 27 декабря 2002 г., однако Верховный суд, сохраняя сорокалетнюю преемственность, не изменил порядок квалификации. Несомненно, правила уголовно-правовой оценки должны соответствовать уголовному законодательству и быть едиными.
-
3. Обратимся к понятию «лицо, находящееся в беспомощном состоянии». Этот признак предусмотрен в основных составах ст. 120, 131 и 132 УК РФ и в качестве квалифицированного в п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Верховный Суд, исходя из специфики совершаемых преступлений, раскрывает содержание этого понятия с принятием постановления № 1 от 27 января 1999 г. в разном объёме. Как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), «надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознаёт это обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые,
-
5. В п. «б» ч. 3 ст. 131 УК предусмотрен особо квалифицирующий признак – изнасилование, «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение её ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия», аналогичный пункт в ст. 132 УК.
законодателя потребовал изменения судебной практики в части уголовноправовой оценки «совершения двух или более преступлений».
В судебных толкованиях нормативного характера периодически давались разъяснения по разграничению неоднократности и совершения преступления в отношении двух или более лиц. При отсутствии единства умысла на общественно опасное деяние в отношении двух или более лиц, совершённых, как правило, в разное время, речь шла о множественности преступлений в форме неоднократности или совокупности. Если же все деяния охватывались единым умыслом, совершались одновременно или с небольшим промежутком во времени, совершенное оценивалось как единое сложное продолжаемое преступление. Отличительной чертой последнего выступают такие признаки, как тождественность действий (бездействия), единство умысла и направленность к одной общей цели. Следуя принципу субъективного вменения, совершение преступления в отношении двух или более лиц предполагает, как правило, одновременное деяние при наличии единого умысла. В отдельных случаях между первым и последующим действием может быть разрыв во времени, однако виновный при этом должен действовать с умыслом, который изначально охватывал несколько аналогичных действий. Иная правовая оценка дана Верховным Судом в апреле 2008 г. применительно к убийствам. «В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершённое одновременно или в разное время, не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам ч. 2 данной статьи при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осуждён» [2]. Такая правовая оценка граничит с объективным вменением, что, согласно ч. 2 ст. 5 УК РФ, недопустимо. С предлагаемой квалификацией можно согласиться лишь при условии, если умысел на преступление возник в процессе реализации первоначального замысла.
Разъяснения Верховного Суда признака совершения убийства в «отношении двух или более лиц», на наш взгляд, не что иное, как разновидность неоднократности, так как ни к единому сложному преступлению, ни к имеющимся в Уголовном кодексе формам множественности данный квалифицирующий признак отнести не представляется возможным.
С учётом того, что законодатель в некоторых статьях Особенной части предусматривает в качестве одного из признаков объективной стороны состава преступления неоднократность совершения действий (например, ст. 180 УК «Неоднократное использование товарного знака», ст. 151-1 УК «Неоднократная розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»), предлагается восстановить понятие «неоднократность» в ст. 16 УК. В новой формулировке исключить рецидив и восстановить данный квалифицирующий признак в статьях Особенной части УК РФ. Таким образом, нейтрализуются возникшие противоречия в уголовно-правовой квалификации единичных сложных преступлений в виде «продолжаемых преступлений» и множест- венности в форме «неоднократности» и «совокупности».
малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее» [7]. «Изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) следует признавать совершёнными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и т.п.) не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом лицо, совершая изнасилование либо насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии». Принципиальное отличие заключается в том, что состояние сна и сильная степень опьянения при убийстве беспомощным состоянием не признаются, а в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера «может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, которая лишила это лицо, например потерпевшую женщину, оказать сопротивление насильни-ку»[8]. Разъяснения даны лишь относительно трёх составов преступлений. Какой подход законодателя применять при квалификации других уголовно-правовых норм с аналогичным признаком? 4. Следующий момент – квалификация престу- плений с использованием макета оружия. «Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учётом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия» [9]. В последнем случае считаем квалификацию по ст. 161 УК как грабеж не соответствующей принципу субъективного вменения, так как оценке подлежит не направленность умысла субъекта хищения, а восприятие ситуации потерпевшим. Такая же правовая оценка даётся в составе бандитизма ст. 209 УК: «Использование участниками нападения непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака их вооружённости» [10].
Применительно к хулиганству с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в постановлении даётся диаметрально противоположное разъяснение: «Применение в ходе совершения хулиганства незаряженного, неисправного, непригодного оружия (например, учебного) либо декоративного, сувенирного оружия, оружия-игрушки и т.п. даёт основание для квалификации со- деянного по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ» [11]. Такая квалификация, на наш взгляд, не согласуется с принципом субъективного вменения.
Согласно правилам квалификации по признаку вины, в частности установленному в ч. 1 ст. 24 УК, «деяние, совершённое только по неосторожности, признаётся преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса». Следовательно, исходя из смысла ч. 2 ст. 24 УК умышленное заражение ВИЧ-инфекцией не охватывается п. «б» ч. 3 ст. 131 и 132 УК и должно квалифицироваться по совокупности с ч. 1 ст. 131 или 132 УК. По правилам ст. 69 УК возможная максимальная санкция – девять лет лишения свободы (максимальная санкция ч. 1 ст. 131 – шесть лет лишения свободы, ч. 2 ст. 122 УК – пять лет). При неосторожном заражении ВИЧ-инфекцией (п. «б» ч. 2 ст. 131 и 132 УК) максимальная санкция – пятнадцать лет лишения свободы. Налицо явное несоответствие наказания совершенному деянию. Возможно поэтому, раскрывая содержание неосторожного заражения потерпевшей (потерпевшего) ВИЧ-инфекцией, Пленум разъясняет: «Действия виновного подлежат квалификации по пункту «б» части 3 статьи 131 и пункту «б» части 3 статьи 132 УК РФ как при не- осторожном, так и при умышленном заражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией» [12]. 6. Высшая надзорная инстанция неоднократно указывала на необходимость, согласно п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, устанавливать мотивы и цели совершения преступлений. Обратим внимание на правовую оценку общественно опасных деяний, совершаемых с двумя целями или мотивами. В уголовном законе ряд статей не исключает несколько мотивов или целей. Так, основной состав торговли людьми (ч. 1 ст. 127-1 УК) в качестве признака субъективной стороны предусматривает целью «эксплуатацию», в то же время иная цель указана в п. «ж» ч. 2 в качестве квалифицирующего состава («торговля людьми … в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей»).
Статья 213 УК «Хулиганство» традиционно характеризовалась хулиганским мотивом как основным криминообразующим признаком. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ часть первая дополнена п. «б»» хулиганство, совершённое «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Проблема заключается в том, что, с одной стороны, законодатель конструирует уголовно-правовые нормы с несколькими целями или мотивами. С другой стороны, разъясняя правила квалификации, высшая надзорная инстанция исключает вменение двух мотивов или целей. Так, «по смыслу закона квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного виновным убийства определён- ного лица с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ» [13]. «Квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по пункту «л» части 2 статьи 105, или по пункту «е» части 2 статьи 111, или по пункту «е» части 2 статьи 112. или по пункту «б» части 2 статьи 115, или по пункту «б» части 2 статьи 116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, из хулиганских побуждений)» [14].
Таким образом, по общему правилу, выработанному теорией уголовного права и судебной практикой, инкриминируется приоритетный мотив или цель. Этого положения необходимо придерживаться и при конструировании уголовно-правовых норм. Резюмируя изложенное, отметим, что унификация, являясь одним из приёмов законодательной техники, выступает в ка- честве способа правотворческой деятельности. Данный прием действительно эффективен, если источником выступает правоприменительная практика, поскольку именно практика является индикатором потребности в единой правовой материи. Соглашаясь с необходимостью унификации, мы солидарны с мнением криминологов в том, что она «не может осуществляться безгранично, и существует определенный предел, при выходе за который унификационные процессы будут абсолютно неэффективными, даже нежелательными, и начнет своё действие обратная тенденция – дифференциация законодательства» [15]. И все же задачей законодателя и правоприменительных органов должно стать стремление к единообразному толкованию оценочных признаков и выработке единых правил квалификации.
Список литературы Вопросы законодательной техники и унификации понятий в уголовном законодательстве и судебной практике
- О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 г. № 11 (п.1).
- О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3.04.2008 г. № 4.
- О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1.
- О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 29 (п. 22).
- О судебной практике по делам о вымогательстве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4.05.1990 г. № 3 (с изм. на 25.10.1996 г.) (п.6).
- О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 г. № 11 (п. 16).
- О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 г. № 1 (п. 7).
- О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 г. № 11 (п. 3).
- О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 29 (п. 23).
- О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997 г. № 1 (п. 5).
- О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершённых из хулиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 (п. 4).
- О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 г. № 11 (п. 13).
- О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 г. № 1 (п. 13).
- О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 28.06.2011 г. (п. 3).
- Кругликов, Л. Об унификации в уголовном праве/Л. Кругликов, Л. Смирнова//Уголовное право. № 5. 2006. С. 58.