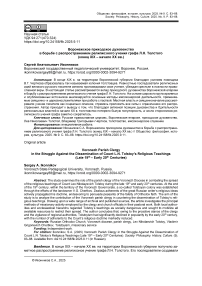Воронежское приходское духовенство в борьбе с распространением религиозного учения графа Л.Н. Толстого (конец XIX – начало XX вв.)
Автор: Иконников С.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В конце XIX в. на территории Воронежской губернии благодаря усилиям помещика В.Г. Черткова образовалась так называемая колония толстовцев. Ревностные последователи религиозных идей великого русского писателя активно проповедовали свое учение, убеждая крестьян в ложности православной веры. В настоящей статье рассматривается вклад приходского духовенства Воронежской епархии в борьбу с распространением религиозного учения графа Л.Н. Толстого. На основе широкого круга архивных и опубликованных источников анализируются основные методы миссионерской деятельности, применяемые священно- и церковнослужителями при работе с паствой. Местная власть и священноначалие рассматривали учение писателя как социально опасное, стремясь приложить все силы к ограничению его распространения. Автор приходит к выводу о том, что благодаря активной позиции духовенства и бдительности региональных властей в начале XX в. толстовство потеряло былую популярность, а число сторонников религиозного учения графа заметно сократилось.
Русская православная церковь, Воронежская епархия, приходское духовенство, Лев Николаевич Толстой, Владимир Григорьевич Чертков, толстовство, миссионерское служение
Короткий адрес: https://sciup.org/149149080
IDR: 149149080 | УДК: 94:271(470.324) | DOI: 10.24158/fik.2025.9.11
Текст научной статьи Воронежское приходское духовенство в борьбе с распространением религиозного учения графа Л.Н. Толстого (конец XIX – начало XX вв.)
Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия, ,
,
общины, активно проповедовали, привлекали на свою сторону сторонников как из крестьян, так и из среды местной интеллигенции. Власти видели в пацифистской концепции выдающегося писателя, пытавшегося поставить под сомнение традиционное восприятие положений православного богословия, угрозу основам не только духовно-нравственного уклада российского общества, но и сложившегося государственного порядка. Церковь в дореволюционной России играла роль проводника официальной идеологии. Царская власть опиралась на духовенство, стремясь поддерживать благополучие священно- и церковнослужителей. Естественно, возникновение нового религиозного учения, ставившего под сомнение духовный авторитет официальной Церкви, вызывало беспокойство. Коронная администрация прикладывала значительные усилия для того, чтобы противодействовать распространению толстовства. Не осталось в стороне и местное духовенство.
Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении участия священно- и церковнослужителей Воронежской епархии в борьбе с проповедью толстовства. Следует заметить, что тема взаимоотношений Л.Н. Толстого с Русской православной церковью продолжает привлекать внимание ученых. К анализу указанной проблемы обращаются как отечественные, так и зарубежные специалисты. Среди исследователей религиозной проблематики в жизни и творчестве писателя обращались У.П. Беляева (2021), М.В. Гельфонд (2009), Н.Г. Коваленко (Коваленко, 2023), П. Колстё (Kolsto, 2022), Ш. Олстон (Alston, 2020), священник Г. Ореханов (Ореханов, 2016), Ю.В. Прокопчук (2016), В.А. Фатеев (Фатеев, 2017).
Следует заметить, что в историографии наблюдаются две очевидные тенденции. Одни исследователи (В.А. Фатеев, Н.Г. Коваленко, М.В. Гельфонд, У.П. Беляева) рассматривают религиозную концепцию писателя как философское учение, внесшее вклад в развитие отечественной богословской мысли, другие (Г. Ореханов, П. Олстон, Ш. Колсте) – характеризуют концепцию графа как христианскую ересь, ставившую под угрозу традиционные устои православной Церкви. Несмотря на постоянный интерес ученых и наличие различных подходов в научной литературе, история противодействия толстовскому движению в регионах на сегодняшний день не является достаточно изученной.
Настоящее исследование основано на изучении архивных документов, в частности, материалов Российского государственного исторического архива и Государственного архива Воронежской области. В ходе работы были рассмотрены отчеты воронежского архиерея, документы жандармского управления и канцелярии губернатора, посвященные распространению толстовства в регионе. Помимо архивных документов привлекались и неопубликованные источники, в частности, материалы журнала «Воронежские епархиальные ведомости», призванные обличить религиозное движение толстовцев.
При подготовке публикации использовались такие научные методы исследования, как историко-генетический, историко-сравнительный, контент-анализ. Статья основана на применении принципов историзма и объективности. Учение графа Л.Н. Толстого оценивались вне зависимости от убеждений самого автора, стремившегося максимально непредвзято передать атмосферу изучаемого времени.
Основная часть . В Воронежской губернии в конце XIX в. последователи толстовского движения получили широкую популярность. В хуторе Ржевск Богучарского уезда проживал известный помещик, друг Л.Н. Толстого В.Г. Чертков. Он прилагал все возможные усилия к распространению нового религиозного учения. В 1895 г. начальник Воронежского губернского жандармского управления (ВГЖУ) полковник Н.В. Васильев в письме к своему коллеге из Харькова полковнику К.В. Лютову выражал серьезную обеспокоенность в связи с увеличением в губернии числа последователей учения графа: «В настоящее время в Воронежской губернии весьма распространилось лжеучение графа Льва Толстого, последователи коего не могут быть признаны безусловно благонадежными в политическом отношении, так как с названным лжеучением между прочим связано отрицание присяги на верность подданства, чему в настоящее царствованием были неоднократные примеры»1.
Толстовцы отличались глубокой преданностью своему учению. Примечательно в этом отношении заявление проживавшего в колонии хутора Ржевск помещика, выпускника 2-й Московской военной гимназии Е.И. Попова, адресованное приставу 1-го стана Богучарского уезда от 28 сентября 1896 г., в котором он объяснял свои убеждения. В частности, автор заявления просил не считать его православным христианином: «Я перестал принадлежать к православному вероисповеданию по сознательному убеждению, вследствие несогласия догматов и учения православной церкви с моим разумом и чувствами. В настоящее время я не принадлежу ни к какому из существующих вероисповеданий или сект, но верую в Бога и стараюсь исполнять Его волю так, как Он мне положил на душу и как открыта Его Воля Иисусом Христом»2.
Однако помимо религиозной самоидентификации Е.И. Попов заявил также и о том, что он отказывается считать себя ратником ополчения, так как исполнение воинского долга также противоречит его убеждениям: «Я не признаю себя ратником ополчения и вообще принадлежащим к воинскому званию, так как считаю грехом и безнравственным делом всякое насилие и убийство и, в частности, те военные насилия и убийства, которые от меня, как от солдата, может потребовать правительство для защиты от так называемых врагов»1.
Основной способ противодействия учению Л.Н. Толстого заключался в организации эффективной пастырской работы с верующими. Служителям алтаря приходилось внимательно отслеживать состояние дел в приходах. Халатность и упущения могли привести к уклонению населения от православия. К примеру, священник села Демино Валуйского уезда Григорий Долгов заявлял, что некоторые крестьяне в 1895 г. ходили на подработку в хутор Ржевск Богучарского уезда к помещику В.Г. Черткову. Под влиянием проповеди последователей толстовства обратно они вернулись другими людьми. В особенности крестьянин Никита Тимофеев. Ранее он и его односельчане отличались особой набожностью, благочестием. По возвращении из хутора они перестали ходить в церковь. Иерею Григорию пришлось приложить большие усилия для того, чтобы вновь обратить их в православную веру. Оказалось, что сестра помещика в беседе с работниками поднимала религиозные темы, убеждала мужчин в ложности учения православной Церкви о непорочности Девы Марии. Священнику пришлось предпринять немало усилий, чтобы убедить крестьян в ложности слов помещицы и уговорить их снова посещать православный храм2. Иерей Григорий Долгов смог также побудить крестьян отдать полученную ими в хуторе Ржевск запрещенную литературу, содержащую основные положения толстовского учения. Всего они добровольно передали священнику, а тот в свою очередь – помощнику начальника Воронежского губернского жандармского управления (ВГЖУ), девятнадцать запрещенных печатных изданий.
Религиозное учение Л.Н. Толстого распространялось не только среди простых прихожан. Сторонники графа стремились привлечь к движению как можно больше людей, в том числе воспитанников Воронежской духовной семинарии. В частности, по агентурным сведениям департамента полиции Министерства внутренних дел активным проводником учения графа в местной духовной школе являлся сын священника села Тулучеево семинарист пятого курса Николай Марков, которому было поручено распространять среди его товарищей журнал «Esperantisto», издававшийся на международном языке эсперанто3. Администрации духовной школы предписывалось внимательно следить за состоянием дел в учебном заведении и при появлении нелегальной литературы предпринимать соответствующие меры. Как результат, в семинарии усилили инспекторский надзор, с воспитанниками проводили беседы, разъясняя пагубность нового религиозного учения.
На священнослужителей возлагались функции наблюдения за распространением религиозного учения Л.Н. Толстого. Это неудивительно, ведь именно клирики могли видеть, посещают ли те или иные лица церковь, исповедуют ли православную веру и вообще каких убеждений придерживаются. Так, например в 1904 г. ВГЖУ проводило негласное расследование по поводу принадлежности дворянина Г.А. Русанова, проживавшего в имении в селе Ерофеевка Землянского уезда, к движению толстовцев. Унтер-офицер Иван Кузнецов обратился за помощью в выяснении обстоятельств по делу к местному священнику Николаю Шапочникову. Последний сообщил, что Г.А. Русанов, как и члены его семьи, не посещали храм. Ни разу клирика не приглашали в дом помещика для совершения молебнов или иных церковных обрядов, как это было заведено накануне великих и двунадесятых праздников у православных верующих. Также настоятель храма отметил, что ему приходилось вступать в полемику с женой дворянина Антониной Алексеевной Русановой из-за того, что она неоднократно в праздничные дни умышленно встречала по дороге в церковь крестьян и заводила с ними разговоры на религиозные темы. В ходе бесед помещица спрашивала их, куда они направляются. Когда крестьяне отвечали, что идут в храм помолиться Богу, она заявляла, что это совершенно бессмысленное занятие, так как Господь требует не пустых молитв, а реальных дел. Антонина Алексеевна часто старалась беседовать с крестьянами о православной вере, заявляла о порочности Русской церкви, вместе с мужем читала и раздавала крестьянским детям Евангелие под редакцией графа Л.Н. Толстого4. Священнику приходилось активизировать миссионерскую работу, увеличить число публичных бесед с прихожанами, разъясняя им псевдохристианскую подоплеку распространяемой ереси.
В открытую и достаточно жесткую борьбу с последователями религиозного учения графа вступил священник слободы Еленовки Богучарского уезда миссионер Павел Агеев. Клирик начал противостояние с В.Г. Чертковым, стремясь не допустить распространения ереси в своем приходе.
Так как на землях слободы проживали крестьяне, находившиеся в материальной зависимости от помещика, положение дел на приходе заметно усложнялось. Настоятель фактически остался без средств к существованию. Под влиянием отца Павла крестьяне договорились отдавать на ремонт храма свой воскресный заработок. В.Г. Чертков, узнав об этом факте, стал снимать таких крестьян с работ, лишая их дополнительного дохода. Несмотря на противодействие со стороны дворянина, священник продолжил активную проповедь, обличая лжеучение толстовцев. О ревностной деятельности пастыря стало известно воронежскому губернатору В.З. Коленко, который ходатайствовал о назначении клирикам храма слободы Еленовки государственного жалованья в размере 1 тыс. руб., дабы избавить их от финансовой зависимости от прихожан1.
Ревностные труды священника отмечал и правящий архиерей Анастасий (Добрадин). В сентябре 1895 г. епископ лично побывал в приходе и смог убедиться, насколько пагубной оказалась деятельность толстовцев. Владыка отмечал, что Чертков, «окруженный своими приверженцами, сам не исполняя никаких христианских обязанностей, при сношениях с прихожанами, которые обращаются к нему за помощью или работой у него, поносит духовенство, глумится над Таинствами, осмеивает все священное, отвергает церковь, всякую власть, не принял присяги на верноподдан-ничество Государю Императору Николаю II»2.
В итоге при участии архиерея и воронежского губернатора для поддержки священника удалось назначить последнему оклад жалованья 600 руб. в год, 300 руб. – дьякону, 200 руб. – псаломщику. Для усиления миссионерской работы также было принято решение открыть в селе церковно-приходскую школу.
Помимо пастырской работы с прихожанами, одной из форм организации миссионерской работы с последователями религиозного учения писателя стал обстоятельный разбор и богословский анализ его сочинений. В этом отношении примечательна статья инспектора Воронежской духовной семинарии Д.И. Боголюбова (впоследствии священника, преподавателя Московской духовной академии). В публикации инспектор искренне и откровенно рассказал читателям о дискуссии, которая у него произошла с «одним знакомым интеллигентным человеком». Последний показал религиозные сочинения Л.Н. Толстого и спросил, как следует к ним относиться. Пролистав издания, Д.И. Боголюбов вспомнил заявления графа о том, что он ушел из православной Церкви так же, как уходит птенец из гнезда своей матери, и что он не может возвратиться в лоно православия, как курица не в состоянии стать цыпленком и снова оказаться в своей скорлупе3. По признанию инспектора, на душе стало тоскливо, появилось желание раскрыть всю пагубность ереси хоть и великого, но, очевидно, заблуждавшегося писателя.
Для этого он подробно разбирает пример когда-то яростного сторонника графа Л.Н. Толстого князя Д.А. Хилкова. Последний, как известно, поняв глубину своих прежних заблуждений, вновь обратился в православие, подвергнув резкой критике когда-то почитаемое им толстовство. Главная причина, по мнению князя, популярности учения графа заключалась в неспособности русской интеллигенции к критическому восприятию информации. Все, что не было связано с официальной идеологией, автоматически принималось ей. Оценить адекватность суждений, их рациональность представители образованного слоя общества даже не пытались. Казалось, идеи, осуждавшие проблемы российской жизни, автоматически становились достойными внимания. Князь раскаялся, поняв неправоту подобных рассуждений. Его пример мог стать серьезным аргументом для тех, кто все еще считал критику Церкви со стороны толстовцев уместной. Инспектор Боголюбов предлагал духовенству рассмотреть сочинения князя Д.А. Хилкова, познакомить с его опытом прихожан, некоторые из которых все еще благосклонно относились к религиозному учению Л.Н. Толстого4.
Борьба с ересью продолжилась даже после кончины великого русского писателя. Наоборот, смерть графа вновь обострила общественный интерес к его религиозному учению. Среди прихожан появилось немало тех, кто осуждал Церковь за его отлучение и анафему.
На страницах «Воронежских епархиальных ведомостей» священник Григорий Лебедев рассказал, как он однажды вступил в полемику с женщиной-поклонницей «яснополянского мудреца». Имя прихожанки клирик не назвал, но отметил, что она была хорошо образованной и искренне интересовалась религиозными вопросами. После смерти Л. Толстого среди его сторонников распространялись идеи о том, что примирение писателя с Церковью не состоялось по не зависящим от него обстоятельствам. Якобы он искренне желал снова вступить в лоно православия, и лишь по вине людей, его окружавших в последние дни жизни, не смог совершить покаяние. Ближайшие сторонники не допустили к нему оптинского старца Варсонофия, с которым писатель хотел увидеться по собственному же признанию. Как известно, незадолго до кончины графа митрополит
Антоний (Вадковский) отправил ему телеграмму, призывая его примириться с Церковью. Однако, по некоторым свидетельствам, окружавшие графа в последние дни люди держали его в неведении и ничего не сообщили ему о телеграмме архиерея. Таким образом, женщина, как и многие ее современники, пришла к выводу о том, что священноначалие поступило с великим русским писателем несправедливо и очень жестоко, запретив верующим молиться за почившего1.
В ответ на сомнения женщины иерей Григорий Лебедев высказал следующие вполне логичные контраргументы. Во-первых, если бы действительно Л.Н. Толстой хотел бы раскаяться, то никакие преграды этому бы не помешали. Достаточно было пригласить обычного священника. Такая возможность у графа имелась и ранее, однако он счел целесообразным не примириться с Церковью, а вступить в полемику с духовенством. Во-вторых, обвинения в адрес священноначалия совершенно беспочвенны. Действительно, христианское вероучение призывает прощать ближнего. Однако нарушать свободную волю клирики также не имеют права. Если человек не считал себя членом Русской Церкви, то насильно его никто не имел права записывать в ее ряды2.
С апологией отлучения Л.Н. Толстого от Церкви выступил и псаломщик Иван Прозоровский. Ему также приходилось вступать в полемику с прихожанами, обвинявшими священноначалие в чрезмерно жесткой позиции по отношению к гениальному русскому писателю. В распоряжении псаломщика оказалось письмо одного его знакомого (имя которого церковнослужитель не упоминает), написавшего графу с призывом покаяться перед кончиной и примириться с Церковью. Автор письма в надежде достучаться до Толстого выражал свое искреннее восхищение его литературным талантом: «Примите это слово любви за самое искреннее слово. Россия, весь мир чествуют Вас как громадную литературную величину, а некоторые – и как крупную нравственную силу. Позвольте и мне принести Вам выражение своего почитания Вашего литературного ге-ния»3. Автор письма убеждал графа покаяться, признать Божество Иисуса Христа, истинность православного вероучения.
Иван Прозоровский совершенно справедливо отмечал, что подобных писем Л.Н. Толстому приходили сотни со всех концов Российской империи. Однако, несмотря на призывы неравнодушных людей, писатель так и не захотел принести покаяние, а значит, решение церковных властей о запрете его поминовения совершенно справедливо.
Заключение . Благодаря активной позиции духовенства и бдительности государственной власти с течением времени популярность толстовства в Воронежской губернии заметно снизилась. Кропотливая миссионерская работа, ревностное пастырское служение принесли свои плоды. Согласно отчету архиепископа Тихона (Никанорова) за 1913 г., число толстовцев в регионе сократилось, интеллигентские круги все менее обращались к религиозным произведениям писателя, считая их не манифестом истины и свободы, а очередным примером псевдохристианской ереси4.