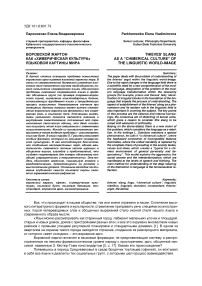Воровской жаргон как «химерическая культура» языковой картины мира
Автор: Пархоменко Елена Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 16, 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной статье освещена проблема осмысления воровского арго в рамках языковой картины мира. В связи со стремительной динамикой изменения языкового поля появляется научная необходимость нового осмысления современного языка, обозначения проблемы изменения современного языка в пределах обсценных групп (на примере тюремно-воровского языка), выявления нонстандартных блоков, основывающих фундамент языка и затрудняющих процесс осмысления. Немаловажное значение при освещении данного вопроса имеет аспект становления воровского жаргона как феномена и его современная роль в языковом поле. Ключевыми моментами указанного процесса являются внешнее и внутреннее заимствования, осознанный акт переиначивания лексических единиц, что дает основание называть этот язык смешанным с элементами искусственности. Исходя из вышеизложенного открывается новое видение проблемы - рассмотреть язык как бунт. В своих трудах Л. Гумилев упоминает особый феномен, который он называет «химерической культурой». В ней господствует бессистемное соединение несовместимых черт, единая ментальность сменяется полным хаосом царящих в обществе вкусов, взглядов и представлений, что создает «характерную для химеры обстановку всеобщей извращенности и неприкаянности». Эта модель объясняет агрессию, социальную аномию и междометизацию, проявляющуюся на речевом и мыслительном уровнях. Основным методом постижения глубинного смысла языковой смуты является герменевтическая рефлексия.
Воровской жаргон, "феня", "химерическая культура", языковой бунт, языковая девиация, нон-стандарт, воровское арго, жизнеотрицание
Короткий адрес: https://sciup.org/14936132
IDR: 14936132 | УДК: 101.8:801.73
Текст научной статьи Воровской жаргон как «химерическая культура» языковой картины мира
Все, что происходит в нашем обществе, так или иначе отражено в языке. Сплетение высокого литературного формата и вульгарности, стремление приправить речь специями из иностранных, порой непереводимых слов и обсценных выражений стало иконой стиля нашего языка и современного образа мысли.
«Язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами» [1]. В одном из кварталов на окраине такого города находится строение, созданное из разнородного материала, от которого «веет холодом» – это воровское арго.
Воровской жаргон включен в языковые формации, не представляющие систему и распространенные на лексико-фразеологическом уровне наряду с просторечием, арго, обсценной лексикой, названные З. Кёстер-Тома нонстандартом [2, с. 17]. Каково его происхождение?
Появившись в период Средневековья в среде бродячих торговцев (офеней), он впитывал в себя все языки и диалекты тех социальных групп, с которыми шел процесс взаимодействия.
Воровское арго включает выражения, пословицы, поговорки в состав своей активной лексики «базлать», «ботать», «крутить восьмерики» (восьмерики - жернова на мельнице), «бабки», «локш» - всё это слова, которые уголовный жаргон перенял из говоров и диалектов великорусского языка [3, с. 113].
«К углическим словам оходары - ноги, крутко - отец, мамысь - мать приведены соответствия из владимирских офеней стухары, хрутень, масья» [4, с. 18]. Также прослеживается связь офенского языка с жаргонами бродячих социумов (музыкантов, актеров, моряков и нищих): хи-лять - гулять, идти, клевый - хороший, хилый - плохой, леха - мужик. «...Благодаря обилию слов этот язык позволял вести разговоры не только на узкопрофессиональные темы [5, с. 89-90]. Часть «воровского» словаря перенято у дворян: «тасоваться», «забивать баки».
Заимствования из литературного языка - своего и других европейских - привносит в язык особая группа носителей, так называемые «деклассированные аристократы» или «ученые воры», имеющие образование и нередко владеющие минимум двумя языками. Из русского литературного языка: академия (тюрьма); поднять бокал (обокрасть бакалейную лавку) аристократ (вор высшего полета); из польского : газ (керосин); пензы (деньга); кшеня (карман); из немецкого : фиш (рыба), фляш (мясо), фрей (человек, держащийся гордо). К французскому непосредственно восходят: пижон (жертва мошенника), браслеты (кандалы), форс (сила), аржан (деньги); к цыганскому : хрять (убежать), хилять (идти), тырить (украсть); к древнееврейскому : малахольный (глупый), ципер (вор, крадущий одежду из передней); к тюркским языкам: бабай (старик).
Прослеживается стремление к мифологизации и сказаниям, что, видимо, и послужило основанием называть воровское арго «байковым языком».
Как и в мифах античности, здесь также присутствуют герои-ориентиры, так сказать, свои «Геркулесы» и «Гераклы». Очень часто молодые воры и мошенники говорят о своем ремесле с более опытными товарищами, которые объясняют им, как нужно обставлять всякие преступления, чтобы не «засыпаться», рассказывают об известных уже покойных и еще оперирующих ворах, об их доблестях, смелости, ловкости и находчивости, о том, какие они употребляли приемы при совершении преступлений: «из кармана берите только в толпе, да не просто в толпе, а в густой, когда человека и сзади и с боков припирают».
По вечерам в камерах заключенные рассказывали о шумевшей в свое время Соньке, прозванной «Золотой ручкой» за небывалый талант в воровском ремесле: «Несколько лет подряд тревожила она Россию своими кражами, похищала громадные суммы и была почти неуловима. Перед ней при каких-то таинственных обстоятельствах отворялись тюрьмы, она чуть ли не делалась невидимкой, живя подолгу в городе, где ее усиленно искали [6, с. 42].
Особое место принадлежит внутреннему источнику пополнения тюремно-воровского языка -словообразовательным процессам в виде семантического переосмысления. Для его лексической системы свойственна подвижность, постоянное появление новых единиц либо приобретение уже существующими новых, дополнительных значений. Это не словотворчество, а переиначивание с целью засекречивания. В качестве определяющего признака слова берется какая-то зримая, ощущаемая черта: «корова (осужденный на съедение беглец), клюка - церковь (у церкви много старух с клюками), копыто (нога), лапа (взятка), кукла (подделка)» [7, с. 192].
Искусственно созданный тайный язык воровской профессии словно котел, куда до 1930-х гг. подкидывали различные металлы и в определенный момент переплавили их. Офенское наречие в новом образе стало языком общения всех заключенных независимо от их статуса в лагерном мире. Позже это обстоятельство обеспечило жаргону проникновение из лагерей на волю.
С середины 1930-х гг. все деклассированные элементы концентрируются в местах лишения свободы (система ГУЛАГа) и рождается не похожий ни на один диалект уникальный языковой феномен. Трагичная страница в истории нашей страны одновременно явилась расцветом уголовно-воровского языка. Империя лагерей стала средоточием этнического, социального, возрастного и интеллектуального калейдоскопа. Потоки «раскулаченных» крестьян, дворян, ученых, священнослужителей, цыган, рабочих, военных, казаков привносили свои элементы лексики. Именно в этот период неотъемлемой частью воровского словаря становится мат. «...Сознание с лихвой обслуживалось приказами и молитвами. Сверху - приказы, снизу - молитвы. Вторые, как правило, оригинальнее первых. Мат - живая молитва тюремной страны. Указ и матерщина - это отечественные инь и янь. Слова насилуют, опускают» [8, с. 91].
Создаваемый десятилетиями воровской мир со своими жесткими законами, строгой иерархией и четким разграничением с властью ломается перед соблазном больших денег в период реформ 1990-х гг.; воровские титулы и прочее теперь можно спокойно купить, преступные авторитеты и боевики-спортсмены вытесняют воров и растаптывают их идеологию, в этот момент мир гражданский и мир криминальный переплетаются между собой какой-то невидимой, но очень крепкой нитью.
Модифицируются «законы» и язык. Отступление от воровских традиций было связано с внедрением услуг на платной основе. Преступная профессия становится коммерческим предприятием, факт засекречивания языка уже не так свойствен новому образованию, он, сливаясь с литературным, рождает гибрид.
Агрессивный и бунтующий язык выступает против самого себя. Он становится интенсивным и напряженным; восстает, сокрушительный и свирепый, против стандартов, уравнивает высокое и низкое, красивое и безобразное [9].
Если раньше необходимо было уметь разграничивать «ботание по фене» (необходимо – возможно – категорически нельзя), то сейчас перед нами картина неконтролируемого употребления уголовного арго. Увеличивающаяся частотность употребления обсценного блока в речи ведет естественным образом к стиранию резкости инвективы, к ее девальвации, а значит, к междо-метизации. С течением времени исключительно резкие инвективы могут превратиться в ничего конкретно не выражающие восклицания [10, с. 126], что в свою очередь может быть свидетельством психического расстройства массового разума (по аналогии: среди причин неконтролируемого сквернословия ученые отмечают целый ряд болезней: навязчивые маниакальные нарушения психики, болезнь Альцгеймера, эпилепсию). Так, из воровского арго в восклицания превращаются «лох», «поц» и др.
Язык, отражая жизнь, облекает ее в определенную форму, которой необходимо обосновать законность существования картины мира преступности, чтобы сохранять контакт с массами, язык учитывает эти постоянные изменения, какими бы они ни были, а таковое невозможно без уверенности в правоте. Данное обстоятельство мы можем обозначить как языковой бунт, который стремится доказать, что в нем есть нечто «стоящее» и оно нуждается в защите. Гармонии и порядку он противопоставляет своего рода право терпеть угнетение только до того предела, какой устанавливается им самим.
Отметим, что мятежный порыв есть нечто большее, чем акт протеста в самом сильном смысле слов. Бунт ломает окружающую действительность и помогает выйти за ее пределы. Тихую гладь он превращает в тайфун.
Бунт не реалистичен, а стремится показаться как истинное. Протестуя, язык открывает лишь отрицательную грань своей сущности, что и переходит во всеобщее употребление, в результате чего получается что-то уродливое и пошлое. «Когда начинается бунт во имя антагонизма, отрицание во имя отрицания, когда отсутствуют благородные идеи, тогда ощущается наступление небытия, раскрывается бездна пустоты» [11], некая черная материя.
Мы наблюдаем процесс опошления идей, форму с извлеченной сущностью. Нарождается новый психологический тип, в котором перекрещиваются все отрицательные, разлагающие веяния, соединяются идеи, которые у лучших были могучими и славными, а у худших становятся пошлыми и дикими, вырождаются во что-то неузнаваемое [12, с. 119–120]
В своих трудах Л. Гумилев упоминает особый феномен, который он называет «химерической культурой», в ней господствует бессистемное соединение несовместимых черт, единая ментальность сменяется полным хаосом царящих в обществе вкусов, взглядов и представлений, что создает «характерную для химеры обстановку всеобщей извращенности и неприкаянности». Формируется система «негативной экологии», особенностью которой является жизнеотрицание, где истина и ложь приравниваются друг к другу [13, с. 191]. Это мир соединения масла и воды, варвара и цивилизации.
Возникший на окраине города, не вписывающийся в архитектурный стиль остальных строений, этот язык внезапно стал зримым. Прежде, возникая, он оставался незаметным, а сегодня это главный персонаж языковой картины современности. Это напоминает один из принципов кибернетики: «в сложной иерархически организованной системе рост разнообразия на верхнем уровне обеспечивается ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, и, наоборот, рост разнообразия на нижнем уровне разрушает верхний уровень организации» [14, с. 183]. Элемент, каким и является современный тюремно-воровской язык, обладающий наибольшей вариабельностью, будет являться контролирующим элементом.
Те или иные феномены чаще всего предстают для нас как данность, и мы имеем дело с уже сложившейся структурой системы, не задумываясь, как одна деталь соединилась с другой и образовала единое целое. То, что вписывается в нашу картину мира, воспринимается как гармоничное и прекрасное, но порой мы встречаемся с тем, что не совсем является таковым и относимся негативно или равнодушно.
Девиация, по мнению Э. Дюркгейма, необходима, поскольку выполняет в нем важную адаптивную функцию: вводя в общество новые идеи и проблемы, девиантность выступает как фактор обновления и осуществления изменений [15]. Возможно ли подобное помыслить в формате девиации языка? В какой-то мере да, ведь проявившаяся «химера» – одновременно и следствие, и причина, хаос, стремящийся к гармонии, текст, который требует прочтения, чтобы быть понятым и услышанным. Достичь этого можно путем непрерывной интерпретации. Так как в своей основе данный феномен имеет разнородные элементы, то специфика осмысления, на наш взгляд, заключается в контексте языкового пространства.
Ссылки:
-
1. Витгенштейн Л. Философские исследования [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/library (дата обращения: 25.08.14).
-
2. Кёстер-Тома З. Стандарт, Субстандарт, Нонстандарт // Русистика. Берлин. 1993. № 2. С. 15–31.
-
3. Ларин Б.А. Западно-европейские элементы русского воровского арго // Язык и литература. Т. VII. Л., 1931 [Электронный ресурс]. URL: http://www.philology.ru/linguistics2/larin-31.htm (дата обращения: 01.09.14).
-
4. Бондалетов В.Д. В.И. Даль и тайные языки в России. М., 2003. 456 с.
-
5. Чалидзе В. Уголовная Россия. Нью-Йорк, 1977. 395 с.
-
6. Брейтман Г. Н. Преступный мир. СПб., 2005. 189 с.
-
7. Снегов С. Язык, который ненавидит. М., 1992. 256 с.
-
8. Егерева Е. Важный Шишкин // Сноб. 2009 № 4 (07). С. 87–103.
-
9. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс [Электронный ресурс]. URL: www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ (дата обращения: 25.08.14).
-
10. Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М., 2001. 352 с.
-
11. Камю А. Бунтующий человек [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru/INPROZ/KAMU/chelowek_buntuyushij.txt (дата обращения: 01.09.14).
-
12. Бердяев Н. Бунт и покорность в психологии масс // Интеллигенция. Власть. Народ : антология. М., 1993 [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/iphras/library/intel/ber1.html (дата обращения: 07.09.14).
-
13. Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. СПб., 2003. 575 с.
-
14. Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории: синергетика, психология и футурология. М., 2004. 368 с.
-
15. Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности (Современные буржуазные теории). М., 1966. С. 39–44.
Список литературы Воровской жаргон как «химерическая культура» языковой картины мира
- Витгенштейн Л. Философские исследования [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/library (дата обращения: 25.08.14).
- Кёстер-Тома З. Стандарт, Субстандарт, Нонстандарт//Русистика. Берлин. 1993. № 2. С. 15-31.
- Ларин Б.А. Западно-европейские элементы русского воровского арго//Язык и литература. Т. VII. Л., 1931 [Электронный ресурс]. URL: http://www.philology.ru/linguistics2/larin-31.htm (дата обращения: 01.09.14).
- Бондалетов В.Д. В.И. Даль и тайные языки в России. М., 2003. 456 с.
- Чалидзе В. Уголовная Россия. Нью-Йорк, 1977. 395 с.
- Брейтман Г. Н. Преступный мир. СПб., 2005. 189 с.
- Снегов С. Язык, который ненавидит. М., 1992. 256 с.
- Егерева Е. Важный Шишкин//Сноб. 2009 № 4 (07). С. 87-103.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс [Электронный ресурс]. URL: www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/(дата обращения: 25.08.14).
- Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М., 2001. 352 с.
- Камю А. Бунтующий человек [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru/INPR0Z/KAMU/chelowek_buntuyushij.txt (дата обращения: 01.09.14).
- Бердяев Н. Бунт и покорность в психологии масс//Интеллигенция. Власть. Народ: антология. М., 1993 [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/iphras/library/intel/ber1.html (дата обращения: 07.09.14).
- Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. СПб., 2003. 575 с.
- Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории: синергетика, психология и футурология. М., 2004. 368 с.
- Дюркгейм Э. Норма и патология//Социология преступности (Современные буржуазные теории). М., 1966. С. 39-44.