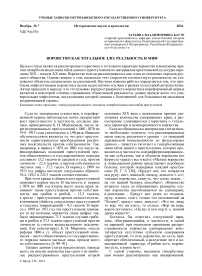Воровство как тотальное зло: реальность и миф
Автор: Бауэр Татьяна Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является рассмотрение стереотипа о тотальном характере воровства и выявление причин гиперболизации масштабов данного преступления по материалам крестьянской культуры середины XIX - начала XX века. Воровство всегда рассматривалось как один из основных пороков русского общества. Однако вопрос о том, насколько этот стереотип соответствует реальности, не становился объектом специальных исследований. Научная новизна работы определяется тем, что проблема мифологизации воровства в целом недостаточно изучена в рамках культурной антропологии. Автор приходит к выводу, что «тотальная» распространенность воровства в пореформенный период является в некоторой степени отражением объективной реальности, однако прежде всего это универсальная мифологема, актуализация которой связана с болезненной для большинства населения модернизацией страны.
Крестьяне, этнокультурный концепт, механизм гиперболизации масштабов преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/14750737
IDR: 14750737 | УДК: 94(470)
Текст научной статьи Воровство как тотальное зло: реальность и миф
Судя по материалам статистики, в пореформенный период наблюдается почти двукратный рост преступности: в частности, согласно данным, приведенным Б. Н. Мироновым, число зарегистрированных преступлений с 1861–1870 по 1911–1913 годы увеличилось в 1,98 раза. Важным обстоятельством является то, что рост преступности характеризуется преобладанием различных посягательств против собственности. Так, например, в период с 1874 по 1883 год число зафиксированных полицией преступлений против общественного и государственного порядка составило 13,2 тысячи (в среднем в год), против личности – 22,4 тысячи, а против собственности частных лиц – 57,5 тысяч. В период с 1909 по 1913 год цифры выглядят следующим образом: 55,4, 149,2 и 245,5 тысячи соответственно.
При этом кражи в общем итоге преступлений занимают первое место. В частности, в период с 1874 по 1883 год второе место после краж занимают такие преступления против собственности, как грабеж и разбой, – 12,3 тысячи, а третье – преступления против личности (за исключением убийств, сексуальных преступлений и телесных повреждений) – 9,3 тысячи. В период с 1909 по 1913 год эти преступления занимают те же позиции, меняются лишь цифры: так, было зафиксировано 71,3 тысячи случаев грабежа и разбоя и 57,3 тысячи преступлений против личности (с учетом вышеуказанного исключения). Как констатирует Б. Н. Миронов, «после реформ 1860-х гг. объект преступлений изменился – место общественного и государственного порядка заняли частные лица, прежде всего их собственность» [5; 90–91].
Однако данная статья предполагает, прежде всего, не анализ воровства как одного из наиболее распространенных преступлений второй
половины XIX века с выявлением причин увеличения количества совершаемых краж, а рассмотрение сложившегося стереотипа о тотальном характере и неискоренимости воровства.
Если не обращаться к материалам статистики, то необходимо отметить, что рассматриваемые нами тексты различного уровня – от описаний деревенской повседневности до фольклорных данных – зачастую тяготеют к гиперболизации масштабов данного преступления, которая проявляется, в частности, в недифференцированнос-ти как субъектов, так и объектов воровства (по формуле «крадут все и всё»): «Мелкое воровство в описываемом районе представляет всеобщую болезнь, которой подвержен каждый крестьянин» [9; Т. 3; 336]; «Крадут все, что попадется под руку: скот, лошадей, одежду, деньги и т. п.»1; «мелкое воровство, стянуть, что плохо лежит, – на это всякий белорус способен»2; «Воровство возросло здесь до поражающих размеров; случаи воровства насчитываются не единицами, а десятками… Крадут все: рожь из подвала, муку, платье, холст, только что положенный на “беливо”, крадут мясо, деньги»3; «Что ни двор, то вор; что ни клеть, то склад»; «Вор на воре, вором погоняет»; «На лес и поп вор (т. е. всякий дрова ворует)»4.
Хотелось бы отметить следующий парадокс, обыгрывающийся, в частности, в одной из паремий: при очевидном признании распространенности воровства одновременно констатируется отсутствие субъектов совершения преступлений, то есть воровство, по сути, приобретает обезличенный, а вследствие чего и неискоренимый характер: «Грабеж есть, воровство есть, а воров нет»5.
С одной стороны, механизм гиперболизации можно рассматривать как вневременной.
В целом воровство в России, если отвлечься от крестьянских представлений, всегда расценивалось как типичный для русского человека порок. В этом отношении интересны фразы, приписываемые венценосным особам и известным в России людям. Так, якобы одним словом «крадут» (в настоящее время цитируют «воруют») описал состояние дел в России Н. М. Карамзин; в оптимистическом ключе о воровстве пишет в частном письме в 1775 году Екатерина II: «Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть, что воровать»; тотальный характер воровства подчеркивается во фразе, приписываемой Николаю I: «В России только я не краду» [3], и в ответе генерал-прокурора П. И. Ягужинского Петру Первому на повеление вешать каждого, кто украдет на столько, что можно купить веревку: «Всемилостивейший государь! Неужели ты хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой» [2; 245].
Не чужды представления о тотальном характере воровства и жителям современной деревни: «сейчас ужас – все ворье. Кругом. Кругом ворье»6; «Бога нет – греха нет: берут и крадут всё». Последний пример интересен тем, что указывает на причину распространения воровства – «отмену» Бога в советское время, которая устранила и понятие греха как этической категории [12; 16]. Кроме того, здесь также содержится скрытое противопоставление нынешних времен и «идеального» прошлого. Воспроизводящий подобные стереотипы, как правило, исключает себя из данного континуума, причем зачастую это как бы само собой подразумевается.
Интересные наблюдения в отношении гиперболизации масштабов воровства, характерной для современного обыденного сознания, делает М. Н. Попова. Она отмечает, что один из аспектов, составляющих основу стереотипных представлений современного человека о воровстве, связан с представлениями о безграничности и масштабности этого феномена, в связи с чем при описании воровства наиболее актуальной метафорой является метафора водной стихии: «Осознавая величину размеров мирового океана, огромные водные просторы сравниваются с воровством, чтобы показать высшую степень распространенности этого явления» [7; 53].
Чем же обусловлено желание поживиться за чужой счет? Порок этот можно объяснить, в частности, тягой к легкой наживе, то есть тем, что русский философ Евгений Трубецкой назвал в свое время «воровским идеалом»: «Самое элементарное проявление этого жизнечувствия – мечта о богатстве, которое само собою валится в рот человеку без всяких с его стороны усилий» [13; 102].
Упоминания о тяге к воровству как легкой наживе встречаются и в этнографических опи- саниях, и в фольклорных текстах; в ряде случаев не украсть – значит подвергнуться насмешкам: «При всем своем трудолюбии ищерцы не прочь при всяком удобном случае поживиться чужою собственностью. За последние три года, говорят, было до 400 случаев краж» (См.: Станица Ищерская… С. 47); «Плохо лежит, у вора брюхо болит, мимо пройтить, дураком прослыть»; «Вор говорит: мимо идти да не украсть дураком назовут»7.
При этом стремление украсть то, что плохо лежит, может стать непреодолимым, и кража в результате преподносится как своего рода неизбежность: «”Не клади плохо, не вводи вора в соблазн” – говорит пословица. Лежит вещь “плохо”, без присмотра – сем-ка возьму, вот и воровство. Человек хороший, крестьянин-земледелец, имеющий надел, двор и семейство, не то чтобы какой-нибудь бездомный прощалы-га, нравственно испорченный человек, но просто обыкновенный человек, который летом в страду работает до изнеможения, держит все посты, соблюдает “все законы”, становится вором потому только, что вещь лежала плохо, без присмотра» [15; 134]. См. также более современный пример: «Корней Иванович (Чуковский. – Т. Б. ) водил в редакцию “Нового мира”. По дороге с восторгом рассказывал, как у него был дворник и как тот сбежал, прихватив с собой пилу и плиту из кухни, и оставил на папиросной коробке послание: “Простите меня, Корней Иванович. Иначе не мог”» [1; 119].
Судя по материалам паремий, воры, занимающиеся кражей как промыслом, уже не могут отстать от него и зарабатывать на жизнь честным трудом: «Вворовавшись, не вдруг отстанешь» (См.: Даль В. И. Толковый словарь… С. 247); «Приедчив вору некраденый кусок»; «Вор и сытый, и обутый, и одетый украдет» (См.: Даль В. И. Пословицы… С. 158); «Вор беду избудет и (или “да”) опять на воровстве будет»; «Сыпь вору хоть золотую гору – воровать не перестанет»; «Кошка мышей ловить не устанет, а вор воровать не перестанет» (См.: Иллюстров И. И. Сборник… С. 359). Причем в текстах подчеркивается также неразборчивость вора: «Ворует что попало и где попало» [15; 32]; «Вор чего не крадет»; «Воришка зевает, а вор ничему не спускает»; «Доброму (или “Хорошему”) вору все в пору»; «Добрый вор ничему не даст спуску» (См.: Иллюстров И. И. Сборник… С. 347).
С другой стороны, несмотря на то что представления о тотальном характере воровства, если рассматривать их в диахронии, носят вневременной характер, в рамках определенного временного промежутка в народном сознании зачастую срабатывает универсальная оппозиция прошлое / настоящее, где прошлое рисуется идеализированно и ассоциируется практически с отсутствием краж, а настоящее изображается временем разгула воровства: «Прежде бывало, сказывают старики, никаких замков не было. Поедет мужик в город с хлебом, оставляет еще полжитницы хлеба, и только накажет кому-нибудь, чтобы поглядел, чтобы свиньи не залезли или ребятишки не набедокурили. Вот, как было <…> а нынче из-под замка глядят стащить, в особенности парни – на водку, и кто таскает – сыновья у своих батек и маток» [9; Т. 1; 121]; «Местные старики-крестьяне утверждают, что крайне редкие, едва ли не единичные и почти неслыханные в прежние старые годы случаи семейных краж младшими членами крестьянских семей имущества, являющегося достоянием и собственностью целой семьи, целого домохозяйства, в настоящее время сделались явлением обыденным и заурядным, не вызывающим ни в ком особого удивления» [9; Т. 4; 186]; «Теперь деревенские воры не стесняются уже соображениями о том, что именно и у кого они крадут, а воруют все, что плохо лежит, при этом <…> никто не обращает на это внимания, а напротив, многие скрывают следы воровства или даже принимают краденое»8.
В двух последних примерах хотелось бы обратить внимание на такие характеристики воровства, как обыденность и заурядность: в массе своей кражи, казалось бы, воспринимаются индифферентно и рассматриваются как неотъемлемая черта пореформенного быта и чуть ли не норма времени, связываемая с общим ухудшением ситуации, «распущенност[ью] нравов, ослаблени[ем] вообще власти родителей и глав семей – домохозяев» [9; Т. 4; 186], распространением пьянства – «водка заставляет воровать» (См.: Г. О. Хулиганствующая молодежь… С. 14), которое крестьяне объясняют пагубным влиянием городов, а также легким отношением к чужой собственности, объясняемым «отсутствием у народа твердых религиозно-нравственных принципов» [9; Т. 4; 185].
При этом само ухудшение ситуации осмыслялось зачастую в контексте эсхатологических представлений. Так, один из фольклорных сюжетов повествует о ночном «видении» пришедшего в дом странника, где наряду с другими грехами хозяев дома упоминается воровство, а пророчество странника «весь дом опустится» проецируется на род человеческий9.
Подобные представления характерны не только для пореформенного времени, однако, скорее всего, их актуализация была особенно характерна для переломных, сложных периодов. В качестве примера, соотносимого с таким периодом, можно привести представления, распространенные в Петровскую эпоху в старообрядческой среде и связанные со сменой календаря: «он [Петр I] украл восемь лет у Бога да еще перенес начало года на январь» [6; 168]. Кража времени является одной из реализаций моти- ва ускорения времени перед приближающимся апокалипсисом, а кощунственность этого действия («украсть у Бога») дает еще одно основание для сопоставления образа царя и Антихриста.
Таким образом, в крестьянской среде распространение воровства ассоциировалось прежде всего с отходом от веры, порчей нравов и в целом с разрушением патриархальных устоев и традиций.
Рассматривая причины сложившегося стереотипа о тотальном характере воровства, можно предположить, что гиперболизация исследуемого феномена в некоторой степени была обусловлена многозначностью самого слова «воровство». По справедливому замечанию О. Б. Христофоровой, «”воровство” в русской культуре – почти универсальный ярлык для греховного поведения, “вором” могли назвать и убийцу, и разбойника, и прелюбодея» [14; 35–36].
При рассмотрении семантики данной лексемы в диахронии оказывается, что развитие лексического значения шло по пути сужения и «специализации» (мошенничество, плутовство, обман, колдовство, бродяжничество, разбой, преступление вообще – тайное изъятие и присвоение чужого).
Необходимо отметить, что, несмотря на сужение значения слова «воровство» в XIX веке, оно продолжает употребляться и по отношению к другим видам преступлений: «в разговорном языке слово “вор” прилагается народом обыкновенно как к лицу, запятнавшему себя кражей, так и к совершившему грабеж, и к сделавшему растрату, – ко всякому человеку, посягнувшему, так или иначе, из корыстных побуждений на чужую собственность» [9; Т. 4; 187]. См. также обыгрывание многозначности слова «вор» в широко известной пословице: «Вор у вора дубинку украл» [10; 40].
Скорее всего, именно «памятью слова» можно объяснить и стремление некоторых авторов расширить границы рассматриваемого ими явления за счет включения самых разнообразных девиаций, объединенных семантикой порочности и греховности: «имя этим кражам легион; так их много и так они разнообразны, что, право, для того, чтобы пересчитать только их, потребовалось бы написать, кажется, целую книгу. Разве бесчестье, ложь, обманы, притеснения в платежах, нечестная торговля <…> лихоимство, ростовщичество, взяточничество, нарушение договоров и условий, намеренная порча хозяйского скота или имущества, покупка краденого, укрывательство и даже помощь и содействие ворам, злостное нищенство и тунеядство, потравы полей и лугов, принадлежащих богатым владельцам, порубки в лесах и пр. и пр., разве все это не воровство?»10 Однако объяснение, связанное только с изначально более широкой семантикой слова «воровство», вряд ли можно считать исчерпывающим.
Возможно, механизм гиперболизации с обязательным (и, как правило, само собой подразумевающимся) исключением воспроизводящего стереотипа о тотальной распространенности воровства из круга приверженных этому пороку (по формуле «один я не краду») связан также с присущим этнокультурному сознанию ощущением социальной несправедливости и «обделеннос-ти». Исключая себя из категории «проворовавшихся», любой из носителей данного стереотипа осознает собственную непричастность к перераспределению материальных благ, пусть даже нелегитимному, и автоматически встает на позицию жертвы. По сути, рассуждения о тотальном воровстве могут служить объяснением личной «обделенности» или шире – общей социальной неустроенности и беспорядка.
Кроме того, такие рассуждения могут служить и способом легитимизации собственного проступка, своего рода оправдательным мотивом при совершении кражи, но при этом изъятие чужой собственности не получает в оценках носителей традиции наименования воровства, соотносящегося с категорией позора, а участие в таком «перераспределении» имущества оправдывается собственной обделенностью и стремлением восстановить социальную справедливость.
Так, например, покушение на помещичий лес крестьяне называли дележом и зачастую отправлялись в лес целой деревней11. Что касается осмысления кражи как дележа собственности, можно отметить, что оно встречается и в художественной литературе, в частности в повести А. И. Приставкина «Ночевала тучка золотая»: «Если от многого берут немножко, / Это не кража, а просто дележка! Так сказал великий писатель, какой именно, Сашка забыл. Не важно: писательский опыт он усвоил» [8; 125]. В данном случае герой А. И. Приставкина вспоминает цитату из «Сказок об Италии» Максима Горького. В оригинале это двустишие дано как цитата из итальянской песенки: «…когда из многого берут немножко, это не кража, а просто дележка» и служит шутливым оправданием какого-либо незаконного изъятия собственности [4].
Отметим, что мечта несколько уравнять зажиточных и неимущих отражалась и в лексике, и в фольклоре. См., в частности, псков., твер. «сверстать» в значении «украсть, стянуть»l2 и предание о мужике Ровняе, который получил свое прозвище за то, что «людей ровнял: от богатых убавлял – бедным прибавлял» [11; 112–113].
Эти предположения подтверждаются и современными материалами. См. например, одно из иронических стихотворений, воспроизводящих стереотип о тотальном характере воровства: «Америк не открою, всем известно, / Что в нашей среднерусской полосе / Исчезли напрочь те, кто жили честно, / У нас воруют абсолютно все! / Приделать ноги норовят чужому, / Наверно, сперли термин “Не мое”! / Унес из кабака бокал для дома / Интеллигент, который из гра-фьев! / Воруют все! Не стало больше лоха, / Кто был бы в этом деле лыком шит! / Воруют всё, что здесь лежало плохо, / И даже то, что хорошо лежит! / Прораб ворует с честною улыбкой / Себе кирпич на дачу не спеша, / Бабулька разжилась пустой бутылкой, / Упертой из-под носа алкаша. / На этом замечательном пиру я, / Выходит, лишний?! Полная фигня! / Обидно мне не то, что все воруют, / А то, что почему-то без меня! / Воруют все, и хором, и приватно, / Я ж обойден на этом дележе… / Сегодня просочусь в метро бесплатно, / Авось и полегчает на душе!»13
Ирония стихотворения заключается в том, что герой отнюдь не противопоставляет себя общей массе, как в вышеприведенных текстах, где имплицитно это противопоставление все-таки содержится. С другой стороны, для него попытка разделить судьбу с остальными представляется как акт восстановления справедливости по принципу «если все воруют, то почему это запрещено мне?». См. также следующие диалоги и рассуждения: «Би-би-си: Почему ты воруешь? Подросток: Все воруют, и я ворую, что я буду упускать такую возможность, что ли? Это правительство во всем виновато»14.
« Массовая вера в то, что воруют все или, вернее, все способны при случае, невероятно поощряет действительное воровство. Ведь такое убеждение – это почти приказ его носителю включиться в подобное занятие. Раз все – то чего ему, носителю, воздерживаться?»15.
Таким образом, «тотальная» распространенность воровства в пореформенный период, вызванная совокупностью политических, социально-экономических и ряда других причин, является в некоторой степени отражением объективной реальности, однако, прежде всего, это свойственная народному сознанию универсальная мифологема, актуализация которой связана с болезненной для большинства населения модернизацией страны, а также с присущим этнокультурному сознанию ощущением социальной несправедливости и «обделенности».
STEALING AS TOTAL EVIL: REALITY AND MYTH
Список литературы Воровство как тотальное зло: реальность и миф
- Станица Ищерская (составлено на основании данных, представленных учительницами Бутовой и Лысенко)//Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 16. Отд. 1. Тифлис, 1893. С. 47.
- Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-западного края. Т 3. Описание жилища, одежды, пищи, занятий, препровождения времени, игры, верования, обычное право, чародейство, колдовство, знахарство, лечение болезней, средства от напастей, поверья, суеверья, приметы и т д. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1902. С. 20.
- Г. О. Хулиганствующая молодежь//Олонецкая неделя. 1913. № 16. С. 13-14.
- Даль В. И. Пословицы русского народа: Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и пр.: В 2 т Т 1. СПб.; М.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1879. С. 183.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т Т 1. СПб.; М.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1880. С. 247.
- Полевой архив Европейского университета (СПб.). ЕУ-Шола-03-ПФ-1.12-ПЕА. Соб.: Кушкова А. Н.
- Иллюстров И. И. Сборник российских пословиц и поговорок. Киев: Типография С. В. Кульженко, 1904. С. 345-346.
- Пр-ский А. Из наблюдений сельского священника над деревней//Олонецкие епархиальные ведомости. 1908. № 14. С. 335.
- Бурцев А. Сборник материалов по этнографии с приложением картин из русской жизни: В 4 вып. Вып. 1. СПб.: Худо -жественная типография А. К. Вейерман, 1905. С. 19-21.
- Быстров А. Н. Беседы о воровстве//Пастырский собеседник. 1899. № 51. С. 760.
- О лесоистреблении//Киевские губернские ведомости. 1865. № 3. С. 12.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. С. 57.
- Клон некоторых там. Воруют все! Туса поэтов . Режим доступа: http://www.gonduras.net/index.php?a=2233
- Беспорядки в Англии: «будем грабить, пока не поймают». ВВС. Русская служба . Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2011/08/110810_riots_looters.shtml
- Олещук Ю. Воруют все. Кроме меня. Огонек. Лучшее 2008. № 52 . Режим доступа: http://www.ogoniok.ru/archive/1998/4573/38-20-21/
- Берестов В. Пробудить гениальность: о детской литературе, детском чтении и психологии детства: Статьи. Воспоминания. Беседы. Стихи/Сост. Р Ефимова. Ярославль, 2007. 287 с.
- Демичев А. А. Отношение российских правителей XVIII -первой половины XIX вв. к воровству как элементу повседневной жизни (по материалам анекдотов)//Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Т 150. Кн. 5. С. 245-250.
- Душенко К. В. Цитаты из русской истории. От призвания варягов до наших дней: Справочник . Режим доступа: http://www.litportal.ru/genre214/author6062/read/page/1/book29846.html
- Известные выражения: Энциклопедия . Режим доступа: http://krylslova.ru/index. php?a=term&d=1&t=1326
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII -начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т 2. СПб., 2000. 568 с.
- Hикольский Н. М. История русской церкви. М., 1983. 448 с.
- Попова М. Н. Репрезентация концепта «воровство» в русском языке: Дисс.. канд. филол. наук. Тула, 2010. 211 с.
- Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая. Повесть. Рассказы. Петрозаводск, 1991. 239 с.
- Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Т 1. Костромская и Тверская губернии. СПб., 2004. 568 с. Т 3. Калужская губерния. СПб., 2005. 648 с. Т 4. Нижегородская губерния. СПб., 2006. 412 с.
- Русские народные пословицы и притчи/Сост. И. М. Снегирев. М., 1995. 576 с.
- Тихвинский фольклорный архив: Исследования и материалы. СПб., 2000. 156 с.
- Толстая С. М. Грех в свете славянской мифологии//Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции: Сб. ст. М., 2000. С. 9-44.
- Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке//Литературная учеба.1990. №2. С.100-118.
- Христофорова О. Б. Дискурс о колдовстве и локальные фольклорные традиции: семантика, прагматика, социальные функции: Автореф. дисс.. д-ра филол. наук. М., 2010. 46 с.
- Энгельгардт А. Н. Из деревни.12 писем,1872-1887/Подред. А. В. Тихоновой. СПб.,1999.715 с.