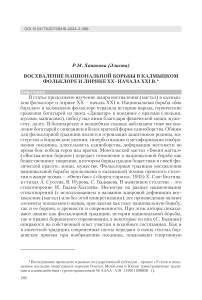Восхваление национальной борьбы в калмыцком фольклоре и лирике ХХ-начала XXI в.в
Автор: Ханинова Р.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье продолжено изучение жанра восхваления (магтал) в калмыцком фольклоре и лирике ХХ - начала XXI в. Национальная борьба «бек бэрлдэн» в калмыцком фольклоре отразила историю народа, героические сражения богатырей из эпоса «Джангар» в поединке с врагами (людьми, мусами, мангасами), победу над ними благодаря физической мощи, мужеству, долгу. В богатырских и волшебных сказках наблюдаем тоже восхваление богатырей с описанием в более краткой форме единоборства. Общим для фольклорной традиции является героизация защитников родины, мастерство в борцовском умении, гиперболизация и метафоризация изображения поединка, длительность единоборства, деформация местности во время боя, победа героя над врагом. Монгольский магтал «Бекин магтал» («Восхваление борцов») передает отношение к национальной борьбе как божественному творению, в котором борцы сродни божествам в своей физической красоте, мощи, мужестве. Фольклорная традиция восхваления национальной борьбы продолжена в калмыцкой поэзии прошлого столетия в жанре поэмы - «внчн бек» («Борец-сирота», 1935) Х. Сян-Белгина, в стихах А. Сусеева, В. Нурова, С. Бадмаева. В нынешнем столетии - это стихотворение И. Бадма-Халгаева. Несмотря на разные наименования стихотворений (с использованием в названии жанровой дефиниции восхваления (магтал) или без этой конкретизации), все произведения являют элементы похвального жанра, прославляя как саму национальную борьбу, так и ее борцов, в древности и современности. При этом авторы показывают знание как фольклорной традиции, истории национальной борьбы, так и правил борцовского соревнования, а некоторые из них (С. Бадмаев) опираются на собственный опыт участия в подобных состязаниях. Как и в эпической традиции, современные поэты передают в своих текстах борцовские приемы при изображении поединка, показывают спортивную форму-одеяние борцов, представляют сам процесс единоборства от начала до окончания, выражая восхищение спортсменами, в том числе земляками. Для этих поэтов характерно определение значения национальной борьбы в прошлом и настоящем, они видят в этом воспитание настоящего мужчины, защитника отечества, верного продолжателя героических традиций предков.
Магтал, калмыцкий фольклор, калмыцкая поэзия, национальная борьба, фольклорная традиция, русский перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149146237
IDR: 149146237 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-398
Текст научной статьи Восхваление национальной борьбы в калмыцком фольклоре и лирике ХХ-начала XXI в.в
Продолжая тему восхваления (магтал) в калмыцком фольклоре и лирике ХХ – начала XXI в. [Ханинова 2024], обратимся к национальной борьбе « бѳк бәрлдән », нашедшей отражение в эпосе, сказках, легендах, маг-тале, пословицах и в стихах калмыцких поэтов.
Первая лексема «бѳк» в калмыцком словосочетании « бѳк бәрлдән » переводится как «борец, силач» [Калмыцко-русский словарь 1977, 113]. Вторая лексема « бәрлдән » означает «схватка, сражение», « бәрлдәч – борец, участник состязания по борьбе» [Калмыцко-русский словарь 1977, 91]. В словаре Жижян Э.-Б. лексема «борьба» во втором значении – « ноолдан, бәрлдән », а «борец» в спортивной терминологии – « бѳк » [Жижян 1995, 31]. У ойратов Синьцзяна « бѳке » означает «борец, силач», « бәрелдәән » – «битва, сражение, схватка», « ноолдаан » – в первом значении «борьба», во втором – «драка, дебош» [Тодаева 2001, 75, 61, 250]. По-монгольски « бѳх » – «борец, силач», « барилдах » – спорт . «борьба» [Монгольско-русский словарь 1957, 82, 63]. Эта терминология показывает общее в культуре монголоязычных народов.
Ирония заметна в одной из калмыцких пословиц: « Харвлһн угад мергн олн, бәрлдлһн угад бѳкнр олн », т.е. «когда нет стрельбы, метких стрелков много, а когда нет борьбы, борцов много» [Калмыцко-русский словарь 1977, 91].
Как один из видов единоборства борьба известна с давних времен, различается у разных народов правилами поединка, одеждой, продолжительностью состязания [Дашинорбоев 2000; Жуковская 2002; Цандыков 2008; Цандыков 2009; Цандыков 2010; Цандыков 2016; Марсунов 2019; и др.].
В дореволюционной этнографической литературе приводятся сведения о состязаниях калмыков, в том числе в «бѳк бәрлдән» [Небольсин 1852, Смирнов 1899, и др.]. П. Небольсин сравнил калмыцкую борьбу с древними олимпийскими играми, «победа на которых венчает победителя славою неомрачимою и быстро разносящеюся по целому калмыцкому миру» [Небольсин 1852, 144].
Борцы явились взорам народа полунагими: на них надеты были одни широкие, белые, далеко не доходящие до колен шальвары. Они низко наклонились, коснулись пальцами обеих рук земли, отдали почесть владельцу, и, умыв руки песком, стали медленно кружить по арене, шагая исполинскими шагами и сильно размахивая руками. Потом они остановились, уставились один против другого и старались друг друга ухватить рукою. Несколько томительных мгновений длился этот маневр: один схватывал противника за кисть правой руки, тот вывертывал ее у него из пальцев и, в свою очередь, выжидал случая схватить его за пальцы, или за плечо, или за часть одежды, в которую выгоднее всего было вцепиться. Наконец они схватились – и друг на друге повисли, обманывая друг друга намерениями переменить позицию [Небольсин 1852, 149].
Как свидетельствует П. Смирнов, «при единоборстве ни женщинам, ни девицам быть не позволяется, потому что лица, имеющие участвовать в борьбе, всегда бывают полунагие. <…> Штанины всегда засучивают выше колен как можно туже <…> Сверх ошкура опоясывают его [борца] новым кушаком, как вещью необходимой при степном единоборстве. <…> В борьбе кочевников главную роль играет сила, а не ловкость борцов» [Смирнов 1999, 72, 73–74].
Национальная борьба в разных соревновательных формах практиковалась и в советский период, прервалась в период ссылки калмыков (1943–1957), возродилась после возвращения на родину, с перерывами, вплоть до сегодняшних дней.
Национальная борьба «бѳк бѳрлдән» в калмыцком фольклоре
Национальная борьба «бѳк бәрлдән» восхваляется в калмыцком эпосе как свидетельство физической мощи богатырей и их антагонистов-врагов в сказочно-фантастическом, гиперболическом, метафорическом, сравнительно-сопоставительном описании.
В калмыцком героическом эпосе «Джангар» поединок антагонистов происходит в разных видах: с оружием и без оружия. Борьба противников без оружия также является типическим местом, что прослеживается в различных версиях эпоса. Так, в Малодербетовском цикле вначале Улан Шара бирмен и Улан Хонгор Прекрасный боролись с помощью оружия, потом договорились схватиться своими молодыми телами: «[Хувцан] тәәллдгсн бәәдг. / Тәкин арсн шалвриг / Тәкм күртлән эвкәд, / Буhин арсн шалв-риг / Бульчң талан шаңхглад, / Бүкр луудң бүсиг / Билг алдр таша талан бүсләд» // «Сняли [доспехи] с себя, / Из шкуры дикой лошади штаны / До подколенных ямок закатали, / Из оленьей шкуры штаны / К икрам закатали, / Из особого шелка луданг пояса / На бедра повязали» [Джангар 2020, 102–103]. Так противники разделись: из обязательной формы – штаны до колен, шелковый пояс-кушак. Гиперболизм эпического поединка проявляется как во временной протяженности (несколько недель и более), так и в действиях: поднимая друг друга, бросали наземь, наконец, Улан Шара Бирмен, на бедро взвалив богатыря, затем, держа за стопы, бил его голову о скалу, которая раскрошилась, раздробил его десять пальцев.
В другом поединке принимают участие и дети. Трехлетний Улан Шов-шур схватился со Свирепым Шара Гюргю: бросали друг друга двенадцать суток кряду, затем еще столько же времени, мальчик также хватает врага за пояс, вдавливает ему в грудь свое бедро, бьет его головой о скалу, вдавливает ему голову в землю на семь локтей [Джангар 2020, 332–333]. Повторно он бил противника несчетное количество раз, заставил его четыре тысячи раз лбом земли коснуться [Джангар 2020, 334–335]. Столь же сильны в борьбе-поединке и старцы. Сила и мощь богатырей такова, что они могут удержаться, стоя на мизинце одной своей ноги.
«Описание борьбы, как и других видов соревнований, сохраняет весьма архаичные элементы, воспринимаемые как сказочно-фантастические. <…> Сама борьба, сколько бы она ни длилась, всегда завершалась победой героя, чаще всего – уничтожением противника» [Кичиков 1997, 68–69].
В калмыцких богатырских сказках среди типических мест есть состязания женихов в трех видах: стрельба из лука, скачки, борцовский поединок. Например, в сказке «Буят hолын экнд бүүрүлсн Буйнта Цаhан Авhин кѳвүн» («Сын дядюшки Буйнты Цагана, поселившегося у истока реки Буята») жених долго борется с ханским борцом: тот, до небесных звезд почти доставая, брыкался, но жених, будучи ловким, удержал его, травинки на земле, словно пересчитывая, брыкался, но жених, будучи проворным, удержал его, рыб в водоеме, словно пересчитывая, брыкался, но жених, будучи родовитым, удержал его. Победив, спросил хана, что сделать с проигравшим, получив отрицательный ответ, разрезал борца на кусочки, разбросал, по суставам разделав, бросил у каждой двери [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 164–173].
Близко к эпической традиции описание одного из борцовских поединков в сказке «Мѳсн аавин Мѳңкин Харин Чилдң гидг баатр» («Месин аавы [сын –] богатырь Менкен Харин Чилденг»). Когда не могли друг друга победить оружием, Бюрю Хара богатырь, посланец Эрлик Номин-хана, и Менкен Харин Чилденг согласились помериться силой своих плеч и лопаток, «из шкуры дикой лошади [сшитые] штаны пятьдесят восемь раз подвернув, из воловьей шкуры штаны к икрам сто тысяч и восемь раз подвернув, схватились [богатыри], давя, сжимая друг друга, толкая друг друга, словно быки, [глаза свои] выкатив, словно верблюды-самцы, кружась, схватились, притягивая к себе, подсекали [друг друга], пока там, где вода была, не стало воды, пока там, где не было воды, появилась вода, боролись, пока там, где холмы были, холмов не стало, боролись, пока там, где холмов не было, холмы появились, боролись» [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 240–241].
И в эпосе, и в сказках физическая мощь противников и длительность поединка манифестируется деформацией окружающего ландшафта.
При этом, как отметил современный фольклорист, «описание поединка богатырей в сказках имеет меньший объем в сравнении с эпическим, где даются развернутые картины схватки с применением ярких гиперболических средств» [Сарангов 2015, 75].
В калмыцкой волшебной сказке [«Җирhлчин Улан Хачр»] ([«Джир-галчин Улан Хачир»]) состязания за невесту проводились в трех видах: скачки, борьба, стрельба из лука. Обернувшись плохоньким мальчиком, Джиргалчин Улан Хачир, подскочив, ударил противника-великана «по правой щеке – сделал его глупым, по левой щеке ударил – сделал его безумным» [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 460–461]. Описание самого борцовского поединка лаконично: «Когда боролись, наш плохонький мальчик, схватив его, ударил так, что тот умер» («Ноолдҗ йовад, мана му кѳвүн авч бәәhәд цокад оркхлань, үкҗ одв») [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 460–461].
Ср. в монгольской богатырской сказке «Богатырь Хэвийн-Сайн-Буй-дар», когда сын вдовы подрос, она сказала ему о том, что незадолго до смерти отец сложил в сундук седло, костюм для борьбы и велел отдать сыну. Когда Буйдар решил взять в жены дочь Нарандан-хана, по пути он победил мангаса, с которым боролся до тех пор, пока землю не изрыли вокруг. Во втором поединке после «недолгой схватки Буйдар положил его на обе лопатки, перевернул, семьдесят три раза сбросил с горы, а потом сжег» [Монгольские сказки 1962, 104]. Состязания за невесту на празднике «на-адам» закончились тем, что
…Буйдар изловчился и бросил соперника за бедро – тот почти целиком ушел в землю. Закричали ханские слуги и, схватив ломы и лопаты, побежали откапывать борца.
– Это у вас так поднимают упавшего? – спросил Буйдар. – А у нас вот так. – И он одним мизинцем поднял своего соперника [Монгольские сказки 1962, 104–105].
Таким образом, в фольклоре монгольских народов в борцовском поединке, длящемся обычно длительное время, богатыри, сняв доспехи, остаются в борцовской одежде, применяют различные приемы, демонстрирующие их силу и мощь, мастерство. Если в сказках не всегда при состязаниях описана борцовская одежда, то она ранее упоминается или подразумевается.
Калмыцкая пословица гласит: «Магтал уга баатр уга, / Матьхр уга модн уга. // Без похвалы не бывает богатыря, / Без изгибов не бывает дерева» [Пословицы, поговорки… 2000, 513].
В монгольском «Бѳкин магтал» («Восхваление борцов»), насчитывающем 57 строк, национальная борьба представлена как божественное творение, когда на празднике «наадам» («Буй буйиг бүрдәсн / Бурхн тѳрин наадмин / Күчтә бѳкин бәрлдәнд») борцы перед поединком ходят кругами с поднятыми руками, словно парят, подобно Хану Гаруди, ястребу, кречету, соколу, воздают в схватке должное друг другу, радуя народ. Из тысячи борцов состязаются лучшие. Они сравнимы по своей силе, храбрости со львом, барсом, слоном, сказочной змеей [Йѳрәлмүд болн маг-талмуд 2008, 30–31].
При этом в магтале нет упоминания борцовского одеяния. Ср. в описании этнографа вида современного борца:
По правилам все борцы должны быть одеты в особую форму: облегающие спортивные трусы ( шуудаг ), куртку с длинными рукавами, прикрывающую спину, но оставляющую открытой грудь ( зодог ), головной убор старого военного образца со сплошным или поделенным на четыре части околышем из черного бархата и высокой конусообразной макушкой, увенчанной изображением «узла счастья» ( ѳлзий ) из плетеного цветного шнура <…> и гутулы [Жуковская 2002, 74].
В праздничной культуре монголов Н.Л. Жуковская отметила «Надом ( наадам или эрийн гурван наадам – досл. “три игрища мужей”) – спортивный праздник, включавший в себя прежде всего, как видно из названия, соревнования в трех основных национальных видах спорта: стрельбе из лука, борьбе, конных скачках» [Жуковская 2002, 71], который проводился обычно в июле. По словам исследователя, на раннем этапе – это родовое жертвоприношение в честь духа-хозяина местности и предков рода, на втором этапе функция Надома сводилась к праздничной демонстрации единения членов рода, а также с охраняющими родовую территорию духами умерших предков и духами-хозяевами местности. Лучшие стрелки, борцы и наездники выступали, защищая честь своего правителя, а не рода. На третьем этапе в связи с вхождением Монголии в состав Китая в период правления династии Цин, Надом был объявлен религиозным праздником. На четвертом этапе в ХХ в. он стал военно-спортивным праздником [Жуковская 2002, 71–73].
Современные борцы-соперники в сопровождении секундантов выходят на поле с разных сторон: «Их походка, приседания, взмахи руками, похлопывание себя по бедрам имитируют полет мифической птицы Гару-ды. Это как бы форма представления зрителям, которые радостно приветствуют появление борца» [Жуковская 2002, 73]. Ср. «Бѳкин магтал».
О калмыцких борцах из фольклора адыгов на основании записи К.М. Атажукина рассказал А. Санджиев, подчеркнув, что среди княжеских борцов были славившиеся своей силой калмыки, которых крали малолетними, воспитывали особенным образом для участия в борцовских состязаниях [Санджиев 2007, 13].
Национальная борьба в калмыцкой лирике ХХ–начала XXI в.: фольклорный аспект
В калмыцкой поэзии прошлого столетия поэма Народного поэта Калмыкии Хасыра Сян-Белгина (1909–1980) «Ѳнчн бѳк» («Борец-сирота», 1935) воссоздает социально-классовую картину через призму состязания борцов [Сян-Белгин 1959]. По словам И.М. Мацакова, поэма
…посвящена развенчанию патриархально-феодальных порядков, царивших в Калмыкии до Октябрьской революции. <…> С глубокой древности борьба у калмыков – это состязание богатырей, национальных героев всего народа. Феодалы извратили народный обычай, превратив его в средство достижения своих корыстных целей. Однако в потомках богатырей – защитниках отечества – еще живы воспоминания об истинно народной, а не феодальной чести [Мацаков 1976, 145].
Стихи калмыцких поэтов о национальной борьбе «бѳк бәрлдән», созданные в разные годы, в названиях указывают на жанр «магтал» («восхваление, величание») и тему. К первому жанровому обозначению относятся «Бѳкин магтал» («Величание борца», 1972) Аксена Сусеева (1905–1995) и «Ypc ноолдлһна магтал» («Восхваление борьбы на празднике Урс сар», 1974) Владимира Нурова. На общую тему написаны три стихотворения Сергея Бадмаева (1938–1998) и Ивана Бадма-Халгаева, из которых два имеют одинаковое название «Хальмг бѳк бәрлдән» («Калмыцкая борьба»), третье – у С. Бадмаева – названо «Бѳк марһан» («Состязание борцов»). Все эти стихи не переведены на русский язык.
«Бѳкин магтал» А. Сусеева впервые напечатан в газете «Хальмг үнн» («Калмыцкая правда») 9 мая 1972 г., что связано с празднованием Дня Победы, когда устраиваются традиционные состязания, в том числе конные скачки и борьба. Для поэта в лексеме «бѳк» («силач, борец») актуализированы коннотации схватки, сражения, битвы и в политическом ракурсе, поскольку и в своем варианте стихотворения под измененным названием «Бѳк салдсин магтал» («Величание солдат-борцов»), опубликованном в журнале «Теегин герл» в 1986 г., он воздает похвалу защитникам Великой Отечественной войны. В первом варианте насчитываются 28 строк, во втором варианте – 20 строк. Оба текста не имеют строфического построения, но в первом тексте некоторые строки разбиты «лесенкой». В целом тексты по содержанию не особенно отличаются за исключением небольшой лексической правки.
Поэт соединил два времени – прошлое и настоящее, чтобы показать преемственность поколений, эстафету мужества и мощи солдата-калмыка, который расписался на стене рейхстага своим богатырским именем после окончания Великой Отечественной войны. И сегодня он всегда со всеми идет, говорят. В труде ли, состязании ли он в первых рядах. В эпической традиции мышцы его вобрали силу быка и верблюда, говорят, сила слона и льва направлена в нужную сторону, говорят. Поэт показал сцену борцовского поединка своего лирического субъекта: «Шүүрәд бүсәснь бәрсн бѳкән / Шүрүндән авад цокхларн, / Ширдг, кевс тергүтниг / Шу тустлнь цокдм гицхәнә» [Сусен 1984, 95] («Схватив за пояс борца, резким ударом опрокинул соперника на ковер, бил до тех пор, пока ковер не разорвался, говорят». Здесь и далее наш смысловой перевод. – Р.Х. ). Ср. в эпической традиции, когда во время поединка неузнаваемо менялась местность вокруг.
Автор назвал борца-современника девятнадцатым потомком эпического Алого Льва Хонгора, внуком-правнуком прославленного Оки Городовикова. Ока Иванович Городовиков (1879–1960) – герой гражданской войны, генерал-полковник, упомянут в общем ряду знаменитых земляков. Та же сцена во втором варианте изображена несколько иначе в использовании борцовских приемов: «Шүүрәд бүсәснь бәрсн бѳкән / Шүрүндән авад ѳргҗ хүрүлнә, / Дарунь терүг деегүрнь ачад, / Далынь hазрт шѳргүл-нә» [Сусен 1986, 23] («Схваченного за пояс борца, резко взяв, подняв, крутил, потом взвалил на себя, прижал лопатками к земле»).
Здесь можно увидеть описание типичной ойратской борьбы с ее специфическими приемами, «заключительным из которых стал прием “ ачад ” (букв. “грузить на себя”)» [Кичиков 1997, 69].
Состязания по борьбе устраивались также по различным праздникам – Зул, Цаган Сар, Урс Сар, т.е. зимой, весной, летом. В стихотворении Владимира Нурова ««Ypc ноолдлһна магтал» («Восхваление борьбы на празднике Урс Сар», 1974) восхваление состязаний на летнем празднике. Стихотворение состоит из четырех строф, первая строфа включает шесть строк в отличие от других четверостиший, т.к. являет «лесенку». В духе величания автор обращается к борцу, прославляя его владение техникой боя, физическую мощь: когда тот свободно сидел, занимал место пятидесяти человек, когда сидел, поджав под себя ноги, занимал место двадцати пяти человек: «Дал деернь ачсан торhдго, / Давс шарх деер тохдго, / Таварлад суухларн, тәвн күүнә / бәәр эзлдг, / Тәкиhәд суухларн, хѳрн тавн күүнә / бәәр эзлдг, / Тәкиhәд суухларн, хѳрн тавн күүнә / бәәр эзлдг» [Нуура 1974, 29]. Упоминание в таком ракурсе богатырского телосложения борца отсылает к эпическому богатырю Гюзян Гюмбе. Сравнивая с бумбайским богатырем, поэт призывал борца силой собственных рук, крепких, как сталь, подавить противника: «Бумбин орна нертә баатр, / Болд мет hарин-нь күчәр, / Боhчад, хортна сүр дар!» [Нуура 1974, 29]. Воодушевляя борца, он наставляет: «Эм-далан хүмҗ нигтрәд, / Ээлә мет элкдн ач! / Эрин нер hуташгон тѳлә, / Эркәhәрн тулн ач!» [Нуура 1974, 29]. Подобно эпическим богатырям, он должен, собрав свои силы, словно коршун, поднимая вверх противника, чтобы не посрамить свое мужское имя, на мизинце устояв, бороться: «Эм-далан хүмҗ нигтрәд, / Ээлә мет элкдн ач! / Эрин нер hу-ташгон тѳлә, / Эркәhәрн тулн ач!» [Нуура 1974, 29]. «Дал күрсн ормнь арднь, / Дарсн тииз метәр үлдг» [Нуура 1974, 29]. Пусть останутся, как печать, следы от лопаток соперника на месте поединка. Тогда победивший на празднике Урс Сар останется примером, прославив свое имя: « Үрс но-олдад диилсн баатрин / Үлгүр болҗ нернь үлдг» [Нуура 1974, 29]. Текст усилен восклицательными знаками, передающими эмоциональное состояние лирического субъекта во время состязания, императив, направленный на победу в поединке, изобилует глагольными формами, являя динамичный посыл, синонимами-повторами.
Сергей Бадмаев в названии своего стихотворения «Хальмг бѳк бәрл-дән» («Калмыцкая борьба», 1995) подчеркивает национальный вид спортивного состязания. Пятнадцать катренов текста – своего рода магтал, созданный в духе эпической традиции, передающий авторское отношение к истории и культуре народа, собственное видение соревнования и образа современного борца.
Вначале поэт дает свое определение национальный борьбы: «Хальмг бѳк бәрлдән – / Хар чидлән сѳрлдән» [Бадмин 1995, 9; Бадмин 2013, 44] («Калмыцкая борьба – испытание силы»). Он описывает процесс состязания, когда соперники выходят из-за полога, хвастаясь, хлопают себя по бедрам, демонстрируя свою физическую мощь. Когда они хватают друг друга, проливая пот (букв. «горячий пот»), притесняют до самых ребер (букв. «ребра выпирают»), крутят до упаду: «Хам теврәд авлдан, / Халун кѳлсән асхлдан. / Хавсан һартл шахлдан, / Харһцад унтлан мошклдан» [Бадмин 1995, 9]. Когда соперники, опрокидывая друг друга, бьются, прижимая друг друга к земле, затем заново поднимаются, превозмогая боль: «Дегдрүләд, сун цоклдан, / Деернь мордад дарлдан. / Алдрад, шинәс босл-дан, / Агсрад, араһан зуулдан!» [Бадмин 1995, 9]. Продолжая описание поединка, поэт показал, как борцы посыпают пылью свои ладони, толкают друг друга взад-вперед, лопатки свои о землю трут под шум толпы зрителей: «Альхндан шора түрклдән, / Ардаран, ѳмәрән түлклдән. / Даларн һазр шудрлдан, / Дала улсин шууглдан» [Бадмин 1995, 9].
Ср. у П. Смирнова старинную подготовку к поединку, когда «борцы, пожавши один другому руки, расходятся, отступивши от центра круга шагов на пять или шесть. Затем, наклонившись в пояс, начинают ходить в одну сторону, описывая круги, как бы стараясь догнать один другого! Причем строго соблюдается диаметрально противоположная сторона. Долго разгуливая, таким образом, среди круга, часто хватают песок и, потирая ладони рук своих, бросают его на воздух. Эта картина напоминает поединок раздраженных быков, которые перед началом боя передними ногами роют землю, вскидывая оную довольно высоко» [Смирнов 1999, 73].
По мнению С. Бадмаева, калмыцкая борьба – это величественное зрелище, в котором борцы схожи с эпическими богатырями, достойно восхищения их физическое совершенство, им всегда адресованы наши восхваления. Поэт признается в свой любви к национальной борьбе, сам отличается бойцовским характером. Его пальцы, сжимаясь, стремятся в ладоням. Для него девятнадцать лет – время укрощения неука, когда то, что взял, не отпускаешь, когда силы не кончаются. Он вспоминает о том, как в молодости вступал в поединок с ловкими борцами, крепнул, как кол; упираясь в землю, толкался с соперником: «Һал наста цагтан / Һавшун бѳкнрлә бәрлдләв. / Һасн кевтә хатурад, / Һазр тулад нүрлдләв» [Бадмин 1995, 9]. В своем опыте применял борцовские приемы, когда, схватив соперника, перекидывал его через свое бедро, отрывая подошвы его ног от земли, в азарте опрокидывал (букв. «сажал на крестец»): «Татад ташадан сегләд, / Тавгинь һазрас салһлав. / Ууртан бүтҗ сегсрәд, / Ууц деернь суулһлав» [Бадмин 1995, 9]. Тогда его противникам приходилось страдать – у них перехватывало дыхание, землей забивало рот. Когда он, поднимая за подмышки соперника, бросал его, тот катился, точно перекати-поле, молясь, что остался жив и здоров: «Хааһаснь ѳргәд шивхлә, /
Хамхул кевтә кѳлврдмн. / Эрүл-менд үлдсндән / Эврә хѳвдән зальврдмн» [Бадмин 1995, 9]. Тогда они переставали бахвалиться, успокаивались, усталые, в поту, поднимались на ноги. Поэтому, считает поэт, калмыцкая борьба – это нелегкое соревнование, это испытание жизненной силы, это собственная сохраненная история. Для С. Бадмаева имена эпических богатырей – Хонгора и Джангара – это борьба начала времен, имена Эрдни, Оки, Валерия – это борьба наших дней: «Эңкр Хоңһр, Җаңһр – / Экн ца-гин бәрлдән. / Эрднь, Ааку, Валер – / Эндрк мана бәрлдән» [Бадмин 1995, 9]. Если эпическая традиция понятна, то современная, видимо, включает имена Эрдни Деликова (1922–1942), погибшего в годы Великой Отечественной войны на Дону, Героя Советского Союза, упомянутого нами ранее Оки Ивановича Городовикова, неясно, кто такой Валерий. Возможно, Герой Советского Союза (1985), генерал-лейтенант, летчик Валерий Очиров (г.р. 1951). Поэт заключает: «Байн тууҗан буульнав, / Баһчудтан соңсхад дуулнав. / Эннь мини бәрлдән – / Эврә билгин сѳрлдән» [Бадмин 1995, 9] («Славлю богатую историю, пою, чтобы слышала молодежь. Это моя борьба – это сила моего дарования»). Таким образом, начав разговор о том, что такое национальная спортивная борьба, в том числе на своем опыте, С. Бадмаев показал преемственность традиций физической культуры и фольклора, соединив в лексеме «бѳк» понятия богатыря, борца, силача, героя, идеал настоящего мужчины.
В другом стихотворении «Бѳк марһан» («Состязание борцов») С. Бадмаев воссоздает одно из спортивных соревнований на кубок имени О.И. Городовикова в Элисте. В этом соревновании приняли участие триста борцов, от имени калмыцких борцов – двадцать человек. Зрителей, от мала до велика, не вмещал зал. Симпатии автора на стороне одного стройного светлого юноши. Он восхищен его ловкостью, мастерством, смелостью. С казахским борцом они, словно матерые быки, схватились и стали бороться: «Хацта хасг кѳвүтә / Хан теврәд бәрлдв. / Наста бухмуд кевтә / Нааран-цааран нүрлдв» [Бадмин 2013, 42–43]. В свою сторону склонив, светловолосый обманул соперника, оторвав его от земли, принял на бедро: «Эврәннь аю дахулад, / Эвтә шар меклв. / Тавгинь һазрас хуулад, / Таша деерән сеглв» [Бадмин 2013, 43]. Затем ему удалось, лишив того самообладания, рывком уронить, прижать его лопатками к земле, одержать над ним верх: «Уха-сегәһинь алдулад, / Угзрад, сун цокв. / Далынь һазрла на-алдулад, / Деернь мордад окв» [Бадмин 2013, 43]. В итоге аплодисменты в зале усилились, судья торопливо вышел к борцам. Он поднял верх правую руку радостного калмыцкого юноши: «Байрта хальмг кѳвүнә / Барун һа-ринь ѳргв» [Бадмин 2013, 43].
В отличие от первого стихотворения в этом стихотворении зарисовка конкретного спортивного соревнования передает мысли и чувства автора-болельщика, его симпатии к одному из участников, знание борцовской науки побеждать. Если предыдущее стихотворение являет восхваление вообще калмыцкой борьбы как таковой, то в этом тексте – персональная похвала безымянному борцу-калмыку как наследнику славных традиций предков-богатырей.
У Ивана Бадма-Халгаева стихотворение «Хальмг бѳк бәрлдән» («Калмыцкая борьба», 2015) также адресовано современному соревнованию калмыцких борцов. Он не конкретизирует ни ранг, ни место состязания. Здесь тоже вначале дается общая картина соревнования, когда борцы, закатав штанины до бедер, показали собравшимся зрителям свой величественный вид, демонстрируя свои мускулы, внимая похвалам, хвастая, били себя в грудь, подзадоривая, задирали друг друга. Раскачивая голым торсом, устрашали друг друга взглядами, затем ухватились крепко за пояса, начали борьбу: «Нүцкн махмударн нәәхлв, / Нүүрцәд нүдәрн әәлhв. / Бүсәсн чаңhар атхлдв, / Бәрлдән-ноолдан эклв» [Бадм-Хаалһин 2015, 21]. Поэт подробно передает схватку соперников. Они, ухватившись, не отпуская друг друга, жестко боролись. Подпрыгивая, толкали друг друга, не давая передышки, показали свое умение. Боролись, поднимая друг друга, верх, боролись внизу, сидя. «Шүүрәд, тәвл уга / Шүрүтәhәр эдн дѳрл-дв. / Серл-сана авхуллго, / Сегсрҗ авад, түлклдв. / Әмсхл ѳглго шахлдв, / Ааль-эвән hарhлдв. / Деерән ачн ноолдв, / Доран сун ноолдв…» [Бадм-Ха-алһин 2015, 21]. От общей характеристики поединка автор перешел к характеристике своего земляка. «Бәрәд авснасн әәдго, / Базhад авсан тәвд-го, / Баатр – мана бѳк, / Баатр – чидл, мек» [Бадм-Хаалһин 2015, 21] («Не боящийся захватить соперника, не отпускающий из своего захвата, богатырь – наш борец, богатырь – это сила и хитрость»). Ср. калмыцкую пословицу: «Мекин ик – үнгнд, мендин ик – бѳкд» («Самая большая хитрость у лисы, самое крепкое здоровье у борца-силача») [Калмыцко-русский словарь 1977, 348]. Концовку боя борец завершил эффектно: внезапно крикнув, бросил соперника навзничь, прижав его лопатками к земле, сверху не отпускал: «Генткн эн хәәкрәд, / Гедргән хаяд цокв, / Далынь hаз-рт шигдүләд, / Деернь hарад оркв» [Бадм-Хаалһин 2015, 21]. Так богатырь победил, на радостях стал танцевать: «Баатр иигҗ диилв, / Байрлҗ эн биилв» [Бадм-Хаалһин 2015, 22]. Так он победил именитого противника, был награжден золотой медалью: «Алдр дииләчд шиидгдв, / Алтн медаляр ачлгдв» [Бадм-Хаалһин 2015, 22].
Следовательно, и в стихотворении И. Бадма-Халгаева есть элементы магтала-восхваления как национальной борьбы, так и ее представителя.
Заключение
Национальная борьба «бѳк бәрлдән» в калмыцком фольклоре отразила историю народа, героические сражения эпических богатырей в поединке с врагами (людьми, мусами, мангасами), победу над ними благодаря физической мощи, мужеству, долгу. В богатырских и волшебных сказках также наблюдаем восхваление богатырей. Общим для фольклорной традиции является героизация защитников родины, мастерство в борцовском умении, гиперболизация и метафоризация изображения поединка, длительность единоборства, деформация местности во время боя, победа героя над врагом. Монгольский магтал «Бѳкин магтал» («Восхваление борцов») передает отношение к национальной борьбе как божественному творению, в котором борцы сродни божествам в своей физической красоте, мощи, мужестве.
Фольклорная традиция национальной борьбы продолжена в калмыцкой поэзии прошлого столетия в жанре поэмы – «Ɵнчн бѳк» («Борец-сирота», 1935) Х. Сян-Белгина, в стихах А. Сусеева, В. Нурова, С. Бадмаева. В нынешнем столетии – это стихотворение И. Бадма-Халгаева. Несмотря на разные наименования стихотворений (с использованием в названии жанровой дефиниции восхваления (магтал) или без этой конкретизации), все произведения являют элементы похвального жанра, прославляя как саму национальную борьбу, так и ее борцов, в древности и современности. При этом авторы показывают знание как фольклорной традиции, истории национальной борьбы, так и правил борцовского соревнования, а некоторые из них (С. Бадмаев) опираются на собственный опыт участия в подобных состязаниях. Как и в эпической традиции, современные поэты передают в своих текстах борцовские приемы при изображении поединка, показывают спортивную форму-одеяние борцов, представляют сам процесс единоборства от начала до окончания, выражая восхищение спортсменами, в том числе земляками.
Для этих поэтов характерно определение значения национальной борьбы в прошлом и настоящем, они видят в этом воспитание настоящего мужчины, защитника отечества, верного продолжателя героических традиций предков.
Список литературы Восхваление национальной борьбы в калмыцком фольклоре и лирике ХХ-начала XXI в.в
- Дашинорбоев В.Д. Особенности национальных видов борьбы у народов России, СНГ, Азии и их влияние на современную методику тренировки борцов вольного стиля: дисс.... д. пед. наук: 13.00.04. М., 2000. 383 с.
- Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. 247 с.
- Диж;эн Э.Б. Yгин эрк. Кемэн оршв. Элст: АПП «Джангар», 1995. 191 х.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. Изд. 3-е, репринт. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 320 с.
- Марсунов С.Н., Габуншин В.В., Дорджиев В.В., Церенов Д.П., Каруев Б.Н. Калмыцкая национальная борьба «Бёке барилдан» в героическом эпосе «Джан-гар» // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2019. № 4. Т. 10. [Электронный ресурс]. URL: https://sfk-mn.ru/PDF/39FLSK419.pdf (дата обращения: 5.05.2024).
- Мацаков И.М. Ветераны калмыцкой литературы. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1976. 157 с.
- Монгольско-русский словарь / под общ. ред. А. Лувсандэндэва. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1957. 715 с.
- Небольсин П. Очерки быта калмыков Хошеутовского улуса. СПб.: Типография Карла Крайя, 1852. 203 с.
- Санджиев А. Калмыки в фольклоре народов Кавказа // Хальмг Yнн. 2007. 25 октября. С. 13.
- Сарангов В.Т. Поэтика и стиль калмыцкой богатырской сказки. Элиста: Издательство Калмыцкого университета, 2015. 108 с.
- Смирнов П. Путевые записки по калмыцким степям Астраханской губернии. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1999. 248 с.
- Тодаева Б.Х. Словарь языка ойратов Синьцзяна (По версиям песен «Джан-гара» и полевым записям автора). Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2001. 493 с.
- Ханинова Р.М. Восхваление плети-маля в калмыцком фольклоре и лирике ХХ-начала XXI в. // Новый филологический вестник. 2024. № 1. Т. 68. С. 386-402.
- Цандыков В.Э. Анализ некоторых литературных источников XVIII-XIX веков, описывающих калмыцкую национальную борьбу // «Молодежь и наука: традиции и инновации в исследованиях молодых ученых Калмыкии», III республиканская научно-практическая конференция (2009; Элиста). III республиканская научно-практическая конференция «Молодежь и наука: традиции и инновации в исследованиях молодых ученых Калмыкии», 30 апр. 2009 г.: материалы / редкол.: Б.К. Салаев и др. Элиста: Издательство Калмыцкого университета, 2010. С. 231-235.
- Цандыков В.Э. Калмыцкий народный эпос «Джангар» о месте и роли национальной борьбы в системе воспитания и подготовки к жизни // Вестник Калмыцкого университета. 2008. № 6. С. 90-93.
- Цандыков В.Э. Страницы истории и основы базовой техники калмыцкой национальной борьбы «беки барилдан». Элиста: ЗАОр НПП «Джангар», 2009. 190 с.
- Цандыков В.Э. Героический эпос «Джангар» как историческое подтверждение сформировавшейся системы единоборства - калмыцкая национальная борьба // «Джангар» и эпические традиции тюрко-монгольских народов: проблемы сохранения и исследования. Материалы III Международной научной конференции, посвященной 75-летию Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (г. Элиста, 15-16 сентября 2016 г.). Элиста: КИГИ РАН, 2016. С. 282-285.