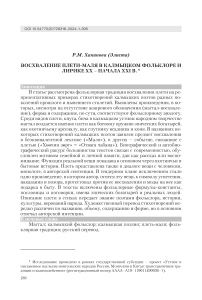Восхваление плети-Маля в калмыцком фольклоре и лирике ХХ - начала XXI в
Автор: Ханинова Р.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена фольклорная традиция восхваления плети на репрезентативных примерах стихотворений калмыцких поэтов разных поколений прошлого и нынешнего столетий. Выявлены произведения, в которых, несмотря на отсутствие жанрового обозначения (магтал-восхваление), форма и содержание, по сути, соответствуют фольклорному аналогу. Среди видов плети, кнута, бича в калмыцком устном народном творчестве магтал воздается именно плети как боевому оружию эпических богатырей, как охотничьему арсеналу, как спутнику всадника и коня. В названиях некоторых стихотворений калмыцких поэтов заявлен предмет восхваления в беэквивалентной лексике («Маля»), в других - событие, связанное с плетью («Хеечин зерг» = «Отвага чабана»). Биографический и автобиографический ракурс большинства текстов связан с современностью, обусловлен мотивом семейной и личной памяти, дан как рассказ или воспоминание. Функция реальной вещи показана в основном через охотничьи и бытовые истории. Плеть представлена также в диалоге вещи с человеком, монологе, в авторской сентенции. В гендерном плане исключением стало одно произведение, в котором автор, отнеся эту вещь к символу угнетения, наказания и позора, протестовал против ее восхваления и моды на нее как подарка в быту. В тексты включены фольклорные формулы-константы, пословицы и поговорки, имена эпических богатырей и реальных людей. Описание плети в стихах передает знание поэтами фольклора, истории, культуры, верований народа. Художественный перевод стихотворений нередко различен по названию, объему, содержанию и форме, но в основном отвечал авторской интенции.
Магтал, калмыцкий фольклор, калмыцкая поэзия, плеть-маля, фольклорная традиция, русский перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149145260
IDR: 149145260 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-395
Текст научной статьи Восхваление плети-Маля в калмыцком фольклоре и лирике ХХ - начала XXI в
В наших статьях о жанре магтала-восхваления в фольклорной традиции калмыцкой поэзии ХХ в. мы рассмотрели магталы, связанные со строительством социализма в советской стране, величанием ее героев, сменой живого коня на железного (трактор), стального (поезд), на стальную птицу
(самолет) [Ханинова 2022a, 413–429; Ханинова 2022b, 435–448; Ханинова 2022c, 439–456]. Продолжая тему магтала в калмыцком фольклоре и лирике ХХ – начала XXI в., обратимся к одному из атрибутов жизнедеятельности кочевника, воина и скотовода, – к плети.
Калмыки различают маля как плеть, нагайку из плетеных полосок ремня, елдң как нагайку, ташмг как бич, шилвүр как кнут, бич [Калмыцко-русский словарь 1977, 340; 222; 483; 672]. По-монгольски малиа – кнут, нагайка, суран малиа – кнут из перевитых ремней с толстым кизиловым кнутовищем; ташуур – кнут, бич, плеть [Большой академический монгольско-русский словарь 2001, 2, 315; 2001, 3, 202], малиа – кнут [Монгольско-русский словарь 1957, 234]. У ойратов Синьцзяна мальаа (малии) – плеть, плетка, нагайка, товорцог ( тоборцог ) – плеть, нагайка (короткая ременная плеть) [Тодаева 2001, 224; 327], а также общее обозначение плети – шилвүр, ташур, маля [Җиҗән 1995, 99].
Пословицы, поговорки, загадки кочевников передали отношение к плети-маля: «маля бәрхлә залу, махла авхла манҗ погов. уст. мужчина тот, кто держит плеть, а тот, кто преклоняется, не мужчина; маян шарх эдгдг, келнә шарх эдгдго посл. уст. рана от нагайки вылечивается, рана от языка – нет» [Калмыцко-русский словарь 1977, 340]; ср. с монгольской пословицей: «Мэсийн шарх анадаг, үгийн шарх анадаггүй. Рана от меча заживет, рана от слова не заживает» [Кульганек 2017, 123]. «Маля цокх hазрт, миңhн церг церглҗ загадка на площади размером с плеть служит тысяча воинов (шорhлҗн муравьи)» [Калмыцко-русский словарь 1977, 340]. Для ойратов Синьцзяна «сәән агтиин хань, сәән залууhиин зевсег, кулег мѳренде омог оруулдаг мальаа (ЙМ 374) плеть – друг хорошего коня, оружие удалого молодца, то, что вдохновляет коня быстро мчаться» [Тодаева 2001, 224]. В монгольских пословицах с помощью лексемы «плеть» дана характеристика речи: «Ѳглѳѳ хазаар, орой ташуур (посл.). Утром узда, вечером – кнут» [Кульганек 2017, 132], что равносильно русской пословице «Начать за здравие, а кончить за упокой»; указана бедность: «Сүүдрээс ѳѳр нѳхѳргүй, сүүлнээс ѳѳр ташуургүй (посл.). Нет друга кроме тени, нет кнута кроме хвоста» [Кульганек 2017, 142]; есть предостережение болтуну: «Хутгаа билүүдсэн хүн мах идэх, хэлээ билүүдсэн хүн ташуур идэх (посл.). Человек, у которого нож торчит (изо рта), мясо ест, человек, у которого изо рта язык торчит, плеть пробует» [Кульганек 2017, 156]; достается и слабому коню: «Эцсэн моринд ташуур олон (посл.). Отставшей лошади достается много ударов плети» [Кульганек 2017, 165]. Ср.: «Сән мѳрнд нег шилвүр, му мѳрнд зун шилвүр погов . хорошему коню один кнут, а плохому – сотня» [Калмыцко-русский словарь 1977, 672].
В калмыцких фразеологизмах включение плети подчеркнуло ее функциональную значимость: «Маля даахарн (мордх). Все от мала до велика; Маля цокх зә уга. Негде ступить; Маляhан атхх, хазаран сүүвдх. Разориться, стать нищим. Вернуться ни с чем» [Фразеологический словарь 2019, 125–126]. Первый фразеологизм указывал на возраст, когда малыш уже мог поднять плеть, а старик еще держал плеть. Ср. в монгольской поговорке на эту тему: «Найман настай балчраас аваад наян настай буурал хүртэл
( погов. ). Все, от восьмилетних малолеток до седых восьмидесятилетних» [Кульганек 2017, 123]. Во втором фразеологизме ( букв . места нет, чтобы ударить плетью) – русский эквивалент о том, что яблоку негде упасть. В третьем фразеологизме ( букв . плетку свою держать в руках, узду под мышками) указание на отсутствие коня у человека.
Среди калмыцких народных песен есть «Маля тамhта бор» («Серко с тавром “нагайки”) [Коваева 2017, 19]. «Известно, что в древности у ой-ратов и калмыков традиция таврения, или нанесения меток на предметы собственности, в первую очередь на скот, имела широкое распространение. <…> В этнокультуре тюрко-монгольских народов тамга, или знак, штамп, тавро, печать является одним из универсальных символов власти или владения» [Бембеев [и др.] 2021, 86; 87]. Тамги, представляющие знаки родовой принадлежности, у захчинов, представителей одного из ойрат-ских поколений в западной Монголии, имели также знак в виде «малиа» («плеть»), у торгутов – разновидности плети, в том числе «зѳв малиа» («плеть, повернутая по направлению солнца», «буру малиа» («плеть, повернутая против направления движения солнца» [Бембеев [и др.] 2021, 86; 87; 94]. Тот же знак тамги-плети характерен и для некоторых калмыцких родов [Авляев 2002; Шараева 2017, 123–146]. Символика такой тамги отразила культ плети как магической защиты у монгольских народов.
В детском фольклоре калмыков бытовали считалки «Малян ишин бәр медлһн» с использованием плети, когда двое вели диалог, с каждым вопросом-ответом по очереди охватывая рукоять плети. «– Аль йовҗ йов-нач? / – Уул орҗ йовнав. / – Уулас яахар? / – Малян ишд оч йовнав, / Бийдән негиг. / – Нанд негиг» [Алтн чееҗтә келмрч 2010, 115] («– Куда идешь? / – В гору иду. / – Зачем идешь? / – За рукоятью для плети, себе одну. / – И мне одну». Здесь и далее наш смысловой перевод. – Р.Х .); «Мод бәр медлһн» [Басангова 2009, 20].
По словам знатока-писателя К. Эрендженова, «плетью калмыки пользовались с давних времен. Верховому она была нужна обязательно – она служила оружием, ее боялись волки и собаки», плети изготовлялись разных видов: «из скрученной высушенной сыромяти – круглая, твердая, как кнут; из нескольких слоев сыромяти (шириной 23 сантиметра), прошитых насквозь – плоская плеть; и самая красивая – сплетенная из восьми или двенадцати ремней плеть. <…> Когда плеть была готова, ее закапывали на 4–5 дней в землю. После этого плеть делалась мягкой, эластичной, как резина. <…> До закапывания в землю и после откапывания плеть обильно смазывали спинным мозгом овцы (из отваренного мяса). Потом насаживали на рукоятку. Ее делали из крепкого дерева (сандал, самшит) и украшали. На конце рукояти делали отверстие, куда вдевали ременную петлю, чтобы можно было за нее держать плеть или вешать на гвоздь. <…> На конце плети укрепляли так называемую “ладонь” из кожи, в которую зашивали кусочек свинца. Это делалось для того, чтобы сила удара плетью была более мощной. Калмыки-охотники одним ударом такой плети по переносице убивали волка» [Эрендженов 1985, 39–40].
Плеть-маля в калмыцком фольклоре
Среди типических мест калмыцкого эпоса исследователи называют в снаряжении богатыря описание богатырской плети-нагайки, разновидности которой известны под общим названием «маляй» («маля»). «На-гайка-маляй, применяемая как холодное оружие в богатырских поединках, восходит к реалиям кочевого скотоводческого быта (употреблялась прежде всего как снаряжение верхового охотника-волчатника, ценилась за красоту отделки, служила предметом гордости своего хозяина). Наиболее известные маляи имели собственные “имена”, о чем свидетельствует маляй Хонгора во второй калмыцкой версии, именуемый Хашил-Тарни [Джангар 1978, 1, 238]. Это богатырское оружие, рану “от одного лишь удара его... едва-едва в шесть месяцев залечивают” [Козин 1940, 118]» [Ки-чиков 1997, 258]. А.Ш. Кичиков указал, что «во всех синьцзян-ойратских версиях нагайка именуется “комканый черный тоборцог” [Жангар 1980, 8, 205; 364; 444]», повторяя описание маляя в версии Ээлян Овла [Кичиков 1997, 259].
Как подчеркнyл В.Т. Сарангов, «наиболее устойчиво в сказках и эпосе описание боевой плети (елдң, маля). <…> И в сказках, и в “Джангаре” одинаково передается описание изготовления плети. <…> Плеть укрепляется сталью, украшается серебром и подвешивается на шелковом ремешке. Важная деталь при этом – плеть пропитывается ядом» [Сарангов 2015, 66]. Ср. в малодербетовском цикле калмыцкого эпоса «Джангар» гиперболическое описание плети Хонгора: «“Һучн царин арсар hоллгсн, / Далн царин арсар девллгсн, / Талта тавн миңhн цаhан тасмта, / Тавн миңhн бѳкин кѳвүн селн шахгсн, / Моһа мѳңгн гүрлһтә, / Һуру hазр цаhан мѳңгәр товчлгсн, / Дѳрү hазр цаhан мѳңгәр альхлгсн, / Ɵ ик занднас / Онц һанцар урһгсн / Нәәтг зандыг олад, / Үй-үйднь керчад авла, / Найн сарднь хатагсн харһаһар ишллә, / Иш маля хойр зокгсн маляг / Бальмин тавн хурhндан бәрәд, / Күдр зандн эркән алхад hарв”. “Со стержнем из шкур тридцати волов, / С оплеткой из шкур семидесяти волов, / Сплетенную из пяти тысяч ремешков, / Пяти тысяч силачей сыновьями поочередно сплетенную, / Плетением змеевидную, / В три пальца толщиной с шишаком из серебра на конце, / В четыре пальца толщиной с пластиной из серебра, / От огромного сандалового леса / В отдалении одиноко выросший / Молодой сандал отыскав, / По коленьям его распилив, / Восемьдесят месяцев сушили и рукоять из него смастерили, / Вот такую плеть, у которой ремешки рукояти под стать / Красными пятью пальцами сжав, / Из прочного сандала порог переступив, он вышел» [Калмыцкий героический эпос «Джангар» 2020, 252; 253]. Схожее описание и плети Джангара [Калмыцкий героический эпос «Джангар» 2020, 282–285], как и в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» [Джангар 2005, 134].
А.А. Бурыкин обратил внимание на то, что в записях песен калмыцкого эпоса от М. Басангова рукоять плети Хонгора сделана «из кизилового дерева, выросшего / Одиноко около травы-осоки» [Джангар 1988, 61; 141], в версии Ээлян Овла плеть другого героя Очир-Гэрэла – «по названию Ха- шил-Тарни с рукоятью из кизила, одиноко выросшего на песке [Джангар 1990, 342]», при этом он считал, что рукоять плети из одинокого дерева характерна только для этих двух версий. На самом деле, такой эпический мотив существует и в отношении плетей Джангара и Хонгора – рукоять сделана из одинокого сандала. Исследователь, ссылаясь на запрет у калмыков срубать одинокое дерево, объясняет эту деталь подобным запретом у эвенов Якутии, поскольку на таком дереве живет дух-хозяин местности [Бурыкин 2014, 46]. Поэтому «богатырь, рукоятка плети которого сделана из одиноко стоящего дерева, является нарушителем запрета, но не это главное – он также должен оказаться победителем духа-хозяина местности, так как только это позволяет ему обзавестись данным предметом, а сама рукоятка плети превращается в предмет, оттеняющий героизм ее хозяина и, возможно, обладающий магической силой, поскольку он приобретен от сверхъестественного существа – духа-хозяина» [Бурыкин 2014, 49]. На наш взгляд, такая параллель не соответствует калмыцким верованиям, где хозяин местности не сидит на одиноком дереве, а главное – ему поклоняются, а не противоборствуют. Возможно, добыча для такой рукояти объясняется трудностью задачи – одинокое дерево в недоступной человеку местности. Ср. в калмыцкой богатырской сказке «Сын дядюшки Буянта Цагана, поселившегося у истока реки Буята» у юноши рукоять плети сделана «из тутового дерева, одиноко выросшего на окраине», в другой сказке «Богатырь Марс Хара, имевший сестру Хала Хогош, младшего брата Гинде Цагана и драгоценного саврасого коня» рукоять плети сделана «из кизила, выросшего в песках» [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 165; 347].
В.Т. Сарангов отметил, что обычно поединок между противниками начинался нанесением ударов плетками, затем переходя к другим видам оружия и к рукопашной борьбе» [Сарангов 2015, 66]. В малодербетов-ском цикле эпоса бой Улан Шара бирмена с Алым Хонгором: «Әәрстин хар товрцгин / Альхн тасртл гүвдлдв. Пока у грозных плетей с шишаком / Пластины не оторвались, бились они» [Калмыцкий героический эпос «Джангар» 2020, 102–103]. Здесь плеть названа товрцг , как в синь-цзян-ойратской версии эпоса. Так, в калмыцкой богатырской сказке «Богатырь Уладжин Мерген» в безлюдной белой степи стали противники «беспрерывно хлестать друг друга по макушкам шлемов жесткой, словно зубы быка, маля»: «Эҗго эрм цаhан кѳдәд ирәд, бүрүhин шүдн маляhа р нег-негнәннь ора хоорндаhур зә завср уга цоклдад авна» [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 333; 332]. В то же время, согласно Р.С. Липец, в эпосе тюрко-монгольских народов плетью убивали врагов, «недостойных, по мнению героя, почетного удара клинком меча или сабли» [Липец 1983, 82]. Как пример, в тувинском эпосе о Хан-Буудае описана расправа героя с тремя сыновьями колдуньи, при этом на третьего плеть не подействовала, и герой убил его стрелой. У якутов в олонхо «плеть по заклинанию или иным колдовским путем превращается не только в меч, но и в панцирь» [Липец 1983, 82]. В калмыцком эпосе «Джангар» «плетью и другими пытками доводят до смерти такого прославленного батыра, как Хонгор, попавшего в плен» [Липец 1983, 82].
Плетью в эпосе наказывали непослушную младшую родню [Липец 1983, 82]. А в одной монгольской сказке «Бийиннь тѳлә күн бәәдго» («Человек не для себя живет») отец наказал сыновей плетью-маля, приговаривая при этом: «Эврә бийиннь тѳлә күн бәәдго. Әмтнә тускар ухалтн, сантн, таднд чигн сән болх!» [Бийиннь тѳлә күн бәәдго 1993, 124] («Человек не для себя живет. Думайте о людях, помните, что тогда и вам будет хорошо!»).
Плеть была такой тяжелой, что в калмыцкой сказке «Буджин Дава хан» мужчина, вздрогнув от крика героя, «вскочил, жену свою левой рукой схватил и побежал прочь. Жена ему: “Это я, я”, – сказала. Муж в ответ ей: “Ой-ой, [с испугу] не признал тебя, подумал, что это маля моя”, – сказал» [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 111]. Комический эффект передан при помощи сочетания физического веса вещи и психологического состояния персонажа.
Боевым искусством владели и женщины. В сказке «Богатырь Барс Мерген» младшая сестра героя, переодевшись в одежду брата и взяв его оружие, в борьбе с мусом «ударами плети пятнадцать голов ему снесла, убила. <…> Точно так же расправилась со следующим [мусом]», а также с собакой и третьим мусом [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 91; 93]. Среди врагов, убитых плетью в богатырских сказках, помимо мусов есть и шулмусы, волки; упомянута и деталь воинственности: сложенная вдвое плеть героя при входе в дом.
В неопубликованном томе Свода калмыцкого фольклора («Калмыцкие сказки о животных, бытовые, кумулятивные сказки и небылицы») в сказке «Алексеев Андра», близкой к мировому сюжету «Кот в сапогах», кукушка научила юношу, взяв обманом сто маля и сто шапок из чужой лавки, утопив эти вещи в реке, выдать их за то, что осталось от подарков юноши хану [НА КалмНЦ РАН 2018, 426–417]. Плеть в таком количестве стала маркером мнимого богатства героя.
В калмыцкой волшебной сказке «Старый седой хан Шатарчи» сыновья одного старика по очереди находили место, где росло много ясеней , срезали ветку для изготовления рукояти маля, еще срезали для этой же цели и ветку таволги [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 145; 147]. В другой сказке юноша, увидев, как какой-то человек повешенного на дереве покойника стегал плетью, смачивая в воде, выяснил, что это наказание для должника («Сказка о Манджин Зарлике…») [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 201]. Кнут с железным шишаком ( шилвүр ) помог герою справиться с оборотнем, переломив тому переносицу («Сказка о русском монахе-оборотне») [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 435].
В монгольской волшебной сказке «Алтан-Гу и Мунгун-Гу» юноша «выхватил из-за пояса кнут, что дал ему старик пастух, и начал хлестать им врагов. Солдаты полегли как подкошенные. Только теперь Мунгун-Гу понял, что кнут у него не простой, а волшебный» [Монгольские сказки 1962, 224]. В другой сказке дочь нойона ударила соперницу кнутовищем по голове [Монгольские сказки 1954, 58], в третьей сказке нойон ударил слугу ташуром так сильно, что тот еле на коне удержался [Монгольские сказки 1954, 64].
В калмыцкой легенде «О происхождении заклинания меркитов» функция плети-маля разнообразна: Элля, защищаясь, трижды ударил плетью небесного дракона Лу, превратившегося на земле в верблюжонка, а потом в обмен на его обещание не причинять никогда вреда роду этого человека, есть без опаски мясо скота, пораженного драконом, трижды ударив при этом по туше плетью, пощадил Лу – поднял его, посадив на рукоятку маля, и тот воспарил в небо [Мифы, легенды 2017, 221]. Ср. в калмыцкой «Сказке о Семнадцатилетнем, сыне богатого человека» Чивчин посоветовал юноше в борьбе с ханом Лу, когда тот трижды промахнется, упав на землю, превратится в верблюжонка, схватить его, стегать плетью до тех пор, пока мясо на двух боках не превратится в месиво, чтобы затем выпросить с его помощью свою жизнь у Эрлик-хана [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 407]. «Согласно фольклорным нарративам, громовержец, упавший на землю, оказывается совершенно беспомощным и попадает в полную зависимость от человека, который волен либо просто помочь ему подняться на небо, либо потребовать за это какой-нибудь награды, либо даже наказать духа за преследование. Так происходит, например, в калмыцкой сказке “Сын Аралтана” или в предании о Мазан Баторе, включающем аналогичный эпизод» [Неклюдов 2019, 167–168]. А в калмыцком мифе «Отчего гремит гром и сверкает молния» гром гремит потому, что злой дух хлещет дракона Лу плетью так больно, что тот ревет [Семь звезд 2004, 48].
У калмыков Синьцзяна сохранился «Малян магтал» («Похвала плети»):
«Эҗго hазрт урhсн / Ѳ ик тәвлхәс авад, / Ѳѳнднь күртл хатаhад ишлсн, / Һунн царин арсн hолта, / Дѳнн царин арсн hадрта, / Орг текин арсн орацта, / Самб торhн салдрhта, / Махн болд альхта, / Тѳмр болд товчта, / Бүрүhин шүдн гүвдрүтә, / Моhан эрә hүрвтә, / Үзүртнь харhсн үнгн / Үкл уга hардго шүрүтә, / Шүрүнднь харhсн чон / Шархдад үкдг андhарта, / Заңhргтнь харhсн хулхач / Зовлңгин мууhар үкдг таңhргта, / Сән агтын хань, / Сән залуhин зевсг, / Күлг мѳрнд омг орулгч, / Күрл сумн малян магтал эн» [Цацлын дееҗ 1997, 136] («Взятая с выросшей в безлюдной местности / Большой таволги, / Сделанная из затвердевшего в течение года ее дерева рукоять, / С сердцевиной из кожи трехлетнего вола, / Покрытая кожей четырехлетнего вола, / С оплеткой из кожи горного козла, / С шелковой ременной застежкой, / Со сталью, покрытой у самой ладони, / С железным шариком, / С грубым плетением, / Со змеиным узором, / При встрече с жестким наконечником которой лиса / Не избежит смерти, / При встрече волк, / раненый, не спасется, / При встрече вор / Умрет в мучениях, / Спутник хорошего коня, / Оружие настоящего мужчины, / Придающая гордость скакуну, – / Это восхваление маля, подобной бронзовой пуле»).
Плеть-маля в калмыцкой лирике ХХ – начала XXI в.: фольклорный аспект
У калмыцких поэтов тема восхваления плети-маля появляется в лирике, начиная со второй половины прошлого столетия. Одно из первых стихотворений – «Маля» (1967) Санжары Байдыева. Такое же название дали своим произведениям Бося Сангаджиева (1981), Константин Эрендженов (1985), Николай Хатуев (2018). Стихи Владимира Нурова (1976) и Михаила Хонинова (1977) названы по первой строчке без упоминания плети. Схожие названия есть в стихах М. Хонинова («Хѳѳчин зѳр-г»=«Отвага чабана», 1960) и Сергея Бадмаева («Зѳрг»=«Отвага», 1976). Калмыцкий русскоязычный поэт Джангр Насунов указал в названии мотив памяти: «В плену у памяти». Ни в одном из этих стихотворений нет в подзаголовке жанрового обозначения «магтал» («восхваление, величание, прославление»), но в теме, лексике, контексте – в основном это похвала плети. В русском переводе Д. Долинского и В. Стрелкова сохранено калмыцкое название вещи С. Байдыева, В. Чонгонов уточнил у Н. Хатуе-ва («Маля-нагайка»), Г. Фролов передал русский эквивалент: «Плетка» Б. Сангаджиевой, Ю. Нейман обобщила как «Оружие» у В. Нурова. Все эти произведения отличаются объемом, структурой, строфикой, размером, ритмом, художественно-изобразительными средствами, в ряде текстов явствует фольклорная традиция жанра магтала плети, в том числе в трансформированном виде.
Так, стихотворение С. Байдыева «Маля» структурировано как диалог вещи с человеком. Приемом олицетворения показано, как крепкая, увесистая плеть («күчтә бѳдүн маля»), друг мужчины и коня («Залу мѳрн хойрин иньг»), в раскачку расхаживая взад-вперед, стала не в шутку бахвалиться своей мощью, вездесущностью, красотой, утверждая, что в беге скакуна и мужестве всадника заключена ее сила: «Күлгин гүүдлтн – мини күчн, / Күүнә зѳргтн – мини күчн» [Байдын 1967, 36]. Хвастаясь, плеть подчеркнула, что сопровождала аранзала (эпического богатырского коня), где только с ним она не побывала, что она украшена серебром, что с ее ремней не исчезают следы зубов хищников, что она сделана из шкуры трехлетнего быка, которую три года сушили, что она вдыхала дым пожарищ, лизала соленый пот аранзала, хлестала сотню скакунов, что в жару и холод обретала мужество. В этом монологе вещи – описание ее изготовления, боевого пути, самовосхваление: элемент магтала присутствует в тексте, как и эпические формулы-константы. В запальчивости плеть, заявив, что в поединке с ней никто живым не выходит, начала вызывать на единоборство любого, кто хочет с ней помериться силой, сравнивая такого с мужчиной без плети, черкесом без кинжала, с джентльменом, утратившем положение, солдатом, потерявшем ружье: «Хәәмнь, намаг угаhар залуйч? / Ханҗал уга уулын серкшч, / Хавта нерән барсн джентльменч, / Хадг бууhан геесн салдсч» [Байдын 1967, 36]. Включение понятия «джентльмен» в безэкви-валентном лексическом варианте, с одной стороны, расширяет временную дистанцию в тексте, как и этнический диапазон (помимо англичанина упо- минается кавказец), с другой – придает современный ракурс ситуации. Хозяин плети, усмехаясь, вошел, сложив плеть, засунув ее в голенище сапога, тихо сказал ей: «Күүнә hарт йовхларн тиим / Күчтә болдган бичә март» [Байдын 1967, 36] («Находясь в руках человека, не забывай о такой силе»). Не умаляя достоинств и заслуг плети, он напомнил о ее вторичной роли в жизни человека. Ср. в русском переводе: «Напрасно, маля, ты друзей умалял. / Забыл, в чьих руках вечно силой ты был?..» [Байдыев 1973, 72]. Плеть тогда обиделась, упрекнув хозяина в том, что он ее опозорил, в таком случае пусть оставит ее, как-нибудь она без него обойдется. Стихотворение завершается авторским суждением: мужчина, отправляясь из дома, не оставит свою плеть. Ср. концовку в переводе, снижающем авторский смысл: «… Быть может, залу это молвил в пылу? / А как, без маля, обойдется залу?» [Байдыев 1973, 72]. (Залу – калм. мужчина).
Если стихотворение С. Бадыева состоит из 11 катренов с двумя двустишиями, то у В. Нурова нет членения на строфы. Здесь тоже есть монолог, но это заповедь старого человека («ѳвк») молодому. Существительное «ѳвк» имеет значения: предок, дед, в сочетаниях «ѳвк авв», «ѳвк эцк» – дед. В переводе Ю. Нейман это линия «прадед – внук». Вначале это рассказ о деде, который в единении с конем и плетью побеждал в сражениях, когда перебивал хребет матерому волку, когда слетала с плеч вражья голова. Перед уходом из жизни вместо завещания он сказал: «Герин эзнд нег / Тохмин зѳѳр бәәдг, / Тоомсрта залу бол, / Тодлад бийдән ав. / Мѳрнә кѳлсәр ивтрсн / Маля герт бәәхлә, / Хорха-меклә тѳрүц / Хальддм биш гидг. / Залу нерән харсх / Зам учрад оддг…» [Нуура 1976, 6] («Есть у нас родовое богатство, стань уважаемым мужчиной, помни об этом. Если в доме есть плеть, пропитанная конским потом, никакие насекомые не заведутся. Мужчина, чтобы защитить свое имя, всегда в пути»). Лирический субъект, задумываясь над сказанным, считает, что смысл этих слов понять нелегко, просто сидя с плетью, рукоять которой из таволги, надо, чтобы человек свои помыслы воплотил в творчестве, тогда становится ясным это оставленное драгоценное знание. Показать змеиный узор, восемь ремней сплести, укрепить мышцы: «Моhан зо hарhад, / Гүрсн нәәмн тасмнь / Гүртцсн мет нииләд, / Моhлцград бульчңган хурана» [Нуура 1976, 7]. Каждую строку надо стремиться создавать кровью, соединив жесткость и сердечность: «Шүрүн седкл хойран / Шүлгин мѳр болhар / Цусарн барлх күслтә» [Нуура 1976, 7]. Нетрудно заметить, что автор сравнил искусство создания плети с искусством стиха, повторяя фольклорные формулы (змеиный узор, восемь ремней, смерть волка от плети), т.е. красоту и силу. У переводчика же наблюдаем противопоставление: «Свое оружие – у всех столетий. / И я бы мог утешить старика: / Порою хлеще восьмижильной плети / Бывает восьмисложная строка!» [Нуров 2008, 28]. Преемственность традиции, согласно поэту, в героизме предков, отстаивающих честь и славу отечества, где плеть – символ мужества, а поэзия – транслятор истинных народных ценностей.
Стихотворение Сергея Бадмаева «Зѳрг» («Мужество», 1976) также включает временной хронотоп, связанный со старшим поколением. Это рассказ внука о том, как он услышал от своего семидесятилетнего деда давнюю историю. Она началась с того, как в полуденный зной, когда земля трескалась, в камышах лиманов Алцынхуты собралось много зверей. Вдруг оттуда выскочил волк, бросился бежать прочь. За ним погнались люди. Среди них молодой Бадма Мучкаев, которого дед-рассказчик назвал самым крепким, принимавшим участие в борцовских состязаниях. Бадма захотел взять волка живым. Выбрав самую тяжелую плеть, сжал ее рукоять, подобно эпическим богатырям, чуть не до сока, ударил ею затравленного хищника: «Сармта хальмг маля / Салдрhарн тасрад нисв, / Догшн чон hәрәдн / Дор ормдан киисв» [Бадмин 1976, 156] («Черненая калмыцкая плеть, порвав ременную застежку, взлетела, свирепый волк, подпрыгнув, упал наземь»). Бадма, взяв волка за уши, с криком прижал его, зажав между ног, не дал ему подняться, расправился с ним. Дед выразил свое восхищение как степняком, так и плетью: «Малян салдрh таслн цокдг / Маңhс ик чидлтә» [Бадмин 1976, 156] («Сила, как у мангаса, ударил так, что даже ременная застежка оторвалась»). Ср. в книжном варианте та же история более подробная, многолюдная. Стихотворение имеет уже подзаголовок: «Кѳгшн аавин келвр» («Рассказ старого деда») [Бадмин 2013, 95]. И если журнальный вариант отличался прямой речью рассказчика, то теперь история строилась в повествовательном плане, сохраняя сюжетную линию: охота на волка с помощью плети. В похвале храбрым степнякам поэт сравнил их с эпическими богатырями [Бадмин 2013, 99]. Он ввел в текст пословицу, которой старик предостерег охотников, – перед смертью волк, оскалившись, может прыгнуть в последний раз: «Чон үкхиннь ѳмн / Чирмәһәд нег күгдлдм» [Бадмин 1976, 155; Бадмин 2013, 97].
Ср. схожий сюжет в стихотворении М. Хонинова «Хѳѳчин зѳрг» («Отвага чабана», 1960) с подзаголовком (тууҗ, букв. история, здесь в значении «быль»). Борда Борлыков, охраняя кошару овец, ночью сразился с волчицей, у которой днем из норы взял с собой двух волчат. Старик, схватив ее за хвост, повалил, вцепившись в уши, сумел надеть ремень на волчью переносицу, спутал ноги хищнику: «Хуурhсинь бүсәр томhлчксн, / Хамцулҗ кѳлмүдинь күлв» [Хоньна 1960, 83]. Эпиграфом к стихотворению автор взял пословицу: «Барсин сүүләс бичә бәр. Бәрсн хѳѳн бичә тәв» [Хоньна 1960, 80] («Не хватай барса за хвост. А если схватил, не отпускай»). Чабан в поединке использовал не плеть (маля), а ремень (бүс), который в умелых руках может сравняться с плетью. Об отваге старика с изумлением поведали его внуки.
В восьмистишии М. Хонинова «Мини тохмд…» (1977) также использована мудрость-поговорка: «Маля даахарн босдг» («Взрослеть, поднимая плеть»). «Mини тохмд / бѳк улс / маля даах / цагасн тѳлҗлә. / Туhлыг ѳр-гәд, / үүрә бәәҗ / туулҗн күртлнь / даадг билә» [Хоньна 1977, 18]. В нашем переводе: «В нашем роду / все силачи, / плеть поднимая, / росли. / А поднимая теленка, / могли / и в пять его лет / нести» [Хонинов 2024]. Лексема «бѳк» имеет два значения: силач, борец. В стихотворении есть автобиографический аспект: по воспоминаниям родственника, один из старших братьев поэта, Санджи, занимался калмыцкой борьбой, участвуя в состязаниях.
БлижекжанрумагталастихотворениеНиколаяХатуева«Маля» (2018), состоящее из 13 катренов. Автобиографический ракурс нарратива обусловлен памятью о вещи – настоящей калмыцкой восьмиполосной плетью, полученной от тети и зятя. Висевшая на перекладине забора, сосновая рукоять плети поломалась, а выбросить ее жалко. Передавая вещь, родня напутствовала: в умелых руках плеть можно починить. Племянник слышал от стариков, как в глухой степи, помолившись, отрезали ветку с таволги. Сам он, добыв таволгу, отремонтировал рукоять подаренной вещи. Поэт воздал должное плети, о которой говорится в легендах, рассказах, поется в песнях, знак которой запечатлен в тамге: «Маля домгт келгддг, / Маля келврт заагддг, / Маля дуунд дуулгддг, / Маля тамh бәәдг» [Хатуhа 2018, 31]. Он привел калмыцкие поговорки о том, что раны от плети могут зажить, что человек взрослеет, подняв плеть, что плеть вошла в пословицы, она может быть приметой: «“Малян шарх эдгдг”. / “Маля даахарн босдг”. Маля үлгүрт ордг. / Маля йорта болдг» [Хатуhа 2018, 31]. В дальней дороге ночью путника с плетью, у которой рукоять из таволги, не тревожит нечисть: «Хол хаалhд hархла, / Xapңhy cѳѳhәp йовхла, / Тәвлh иштә малятаг / Тѳѳрүлҗ шулмс зовадгоҗ» [Хатуhа 2018, 31]. Поэт напомнил о запретах в отношении плети, которую нельзя оставлять вне дома, бросать на землю, перешагивать через плеть, опираться на ее рукоять: «Маля hаза хонулдго, / Маля hазрт хайдго, / Маля деегүр алхдго, / Малян иш түшдго» [Хатуhа 2018, 31]. Среди главных событий – скачки, в описании которых автором эмоционально актуализирована роль плети: «Кесг урлданд орсн / Мѳрд шавдҗ туусн, / Кесг мѳрдин кѳлсн / Малян сурд шиңгрсн» [Хатуhа 2018, 31] («В скольких скачках участвовала плеть, погоняя коней, сколько лошадиного пота впитали ремни плети»). Всадник, догоняя на скакуне в безлюдной местности синего волка, мог, изо всей силы плетью хлестнув, перебить хребет хищнику: «Кѳдән кѳк чоныг / Күлгин хурднд күцдг. / Чи-дләрн маляhар цокад, / Чонын нуhрсинь таслдг» [Хатуhа 2018, 32]. Эпитет «синий» по отношению к волку подчеркнул фольклорно-мифологический культ этого зверя у тюрко-монгольских народов, тотема для отдельных племен, такое его описание встречается в устном народном творчестве и письменных литературных памятниках. В ремни плети словно вплетена душа мужчины, по утверждению поэта: «Зорад гүрсн маля / Залу күүнд әмньҗ» [Хатуhа 2018, 32]. Ср. поговорку о том, что «сурин тасрха хайдг уга, сумна хуһрха шивдг уга», т.е. «Обрывок ремня не бросают и обломок стрелы не кидают» [Калмыцко-русский словарь 1977, 462]. Крепкая плеть могла использоваться, как меч, в дороге: «Хату сур маля / Хаалhднь селм болдгҗ» [Хатуhа 2018, 32]. Завершая похвалу плети, Н. Хатуев воздал должное подарку, ставшему поводом для создания его произведения: «Хар сурар гүрсн / Хуучн цага маляг / Гериннь эрст ѳлгләв, / Герәслҗ хадhлҗ бәәнәв» [Хатуhа 2018, 32] («Сплетенную из черных ремней старинную плеть, повесив дома на стену, бережно храню»).
Та же тема памяти о плети, молча теперь висящей на гвозде без дела, в стихотворении К. Эрендженова «Моя маля» (пер. А. Аквилева) [Эрендженов 1985, 42]. В плену времени у Д. Насунова и плеть, оставшаяся после отца: «И мне потом, по древнему закону, / Старик вручил отцовское маля» («В плену у памяти») [Насунов 2017, 47].
В гендерном плане отличается стихотворение Б. Сангаджиевой «Маля» (1981) [Саңһҗин 1981, 4], в котором она, показав вещь с точки зрения классово-социальной и нравственно-бытовой (наказание бедноты, коней, жены и детей), выразила протест против восхваления плети: «Миниhәр болхла, маляhар / Магтал кедгән ууртха» [Саңhҗин 2008, 313], моды на старинную вещь. В этом слове для нее «наследие дней суровых, в нем проклятье былых времен» [Сангаджиева 2018, 120]. В отличие от перевода Г. Фролова («Плетка») в оригинале есть описание плети, яд которой сильнее змеиного: «Маля миниhәр болхла, / Mohahac даву хорта» [Саңhҗин 2008, 312].
Заключение
Функция плети-маля в фольклоре монгольских народов разнообразна: для управления конем, охоты и сражения, наказания, пытки, лечения, таврения (клеймения), считалки и т.д. Знаки и виды плети указывали на родовую принадлежность, подтверждали возраст, статус и собственность владельца, актуализировали магическую силу защиты и оберега от несчастья, имели сакральное значение.
В стихах калмыцких поэтов разных поколений в основном сохранен фольклорный аспект жанра магтала – хвала плети. Для них маля-плеть – свидетельство истории, культуры, искусства, верований предков. Биографический и автобиографический нарратив передает отношение к плети как родовой и семейной памяти, как проявление мужества, отваги степняков, искусства мастеров, кочевой традиции. Несмотря на то, что в стихах нет прямого жанрового обозначения (магтал), тем не менее, по форме и содержанию это трансформированное проявление фольклорной преемственности, в том числе с включением пословиц и поговорок, упоминанием эпических богатырей.
Список литературы Восхваление плети-Маля в калмыцком фольклоре и лирике ХХ - начала XXI в
- Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа. 2-е изд., перераб. и исправл. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2002. 325 с.
- Алтн чееҗтә келмрч Боктан Шаня. Хранитель мудрости народной Шаня Боктаев / сост., предисл., коммент. и прилож. Б.Б. Манджиевой. Элиста: КИГИ РАН, 2010. 172 с.
- Бадмин С. Зѳрг // Теегин герл. 1976. № 4. Х. 154–156.
- Бадмин С. Зальврhн: шүлгүд. Элст: Җаңhр, 2013. 335 с.
- Байдыев С. Белые кони: стихи и поэмы. М.: Советская Россия, 1973. 192 с.
- Байдын С. Цецгәсиг серүлсн ѳрүн: шүлгүд болн поэм. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1967. 135 х.
- Басангова Т.Г. Детский фольклор калмыков. Элиста: КИГИ РАН, 2009. 72 с.
- Бембеев Е.В., Есенова Т.С., Дулам С. К вопросу о тамговой культуре ойратов Западной Монголии // Вестник Калмыцкого университета. 2021. № 3. С. 86–96.
- Бийиннь тѳлә күн бәәдго. Моңhл тууль // Теегин герл. 1993. № 7. Х. 120–124.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. Т. 2: Д-О / отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев. М: Academia, 2001. 536 с.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. Т. 3: Ɵ-Ф / отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев. М: Academia, 2001. 440 с.
- Бурыкин А.А. Эпос, другие жанры фольклора и архаические религиозные воззрения (Этнографический комментарий к мотивам «Джангара»: Почему рукоятка плети Хонгора сделана из одинокого кизилового дерева?) // Бурыкин А.А., Басангова Т.Г. Типология калмыцкого фольклора. Элиста: ЗАОр «НПП “Джангар”», 2014. С. 43–49.
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: в 3 т. Т. I. Элиста: АПП «Джангар», 2005. 856 с.
- Җиҗән Э.Б. Үгин эрк. Кемән оршв. Элст: АПП «Джангар», 1995. 191 х.
- Калмыцкие богатырские сказки / вступ. ст. Б.Б. Манджиевой; подготовка текстов, переложение калмыцких текстов, пер. Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой, Ц.Б. Селеевой; примеч., комментарии, указатели, словарь Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селеевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, В.Л. Кляус, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев. М.: АО «Первая образцовая типография», Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2017. 561 c.
- Калмыцкие волшебные сказки / вступ. ст. Б.Б. Горяевой; сост., указатели Б.Б. Горяевой, Д.В. Убушиевой; перевод, примеч., коммент., словарь Б.Б. Горяевой, Т.А. Михалевой, Д.В. Убушиевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, В.Л. Кляус, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев. М.: АО «Первая Образцовая типография», Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2020. 584 с.
- Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Малодербетовский цикл / вступ. ст. Б.Б. Манджиевой; сверка текстов с оригиналом на «ясном письме» Б.Б. Горяевой, Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селеевой; пер. Т.А. Михалевой; примеч., коммент., словарь, указатели Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой; отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев, С.Ю. Неклюдов, В.В. Куканова. М.: АО «Первая образцовая типография», Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2020. 544 с.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Калмыцкие сказки о животных, бытовые, кумулятивные сказки и небылицы // Научный архив Калмыцкого научного центра РАН. 736 с.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. Изд. 3-е, репринт. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 320 с.
- Коваева Б.М. Калмыцкая народная песенная поэзия: традиция, современное состояние и формы бытования: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.01.09. Майкоп, 2017. 23 с.
- Кульганек И.В. Монгольские пословицы и поговорки. Исследование, перевод, комментарий. СПб.: Петербургское востоковедение, 2017. 184 с.
- Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1983. 263 с.
- Мифы, легенды и предания калмыков / подгот. текстов, пер., вступ. ст., примеч., коммент., указатели, словарь, сверка калмыцких текстов Т.Г. Басанговой, Т.А. Михалевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, Е.Н. Кузьмина, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев; Калмыцкий научный центр РАН. М.: Наука-Восточная литература, 2017. 367 с.
- Монгольские сказки. Л.: Детгиз, 1954. 142 с.
- Монгольские сказки. М.: ГИХЛ, 1962. 239 с.
- Монгольско-русский словарь / под общ. ред. А. Лувсандэндэва. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1957. 715 с.
- Насунов Д. Избранное: стихи, рассказы, литературные портреты, эссе. Элиста: КалмНЦ РАН, 2017. 320 с.
- Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии. Миф и обряд. М.: Индрик, 2019. 520 с.
- Нуура В. Булгин амтн: шүлгүд. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1976. 99 х.
- Нуура В. Цаhан җивртә җилмүд минь. Шүүҗ барлсн шүлгүд, поэмс. Хойрәңг. Элст: Барин гер «Герл», 2008. 640 х.
- Сангаджиева Б.Б. Избранное: стихи, поэмы / пер. с калм. М.: ООО «Арго-Книга», 2018. 432 с.
- Саңһҗин Б. Маля // Хальмг үнн. 1981. Хулhн сарин 3. Х. 4.
- Саңһҗин Б. Суңһсн шүлгүд, поэмс. Хойр боть. Хальмг болн орсар келәр. 1-гч боть. Элст: Барин гер «Герл», 2008. 496 с.
- Сарангов В.Т. Поэтика и стиль калмыцкой богатырской сказки. Элиста: Издательство Калмыцкого университета, 2015. 108 с.
- Семь звезд: мифы, легенды и предания / сост., пер. с калм., вступ. ст., коммент. Д.Э. Басаева. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2004. 414 с.
- Тодаева Б.Х. Словарь языка ойратов Синьцзяна (По версиям песен «Джангара» и полевым записям автора). Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2001. 493 с.
- Фразеологический словарь калмыцкого языка / под ред. Г.Ц. Пюрбеева. Элиста: АУ РК «РИА «Калмыкия», 2019. 286 с.
- (а) Ханинова Р.М. Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья первая // Новый филологический вестник. 2022. № 2. С. 413–429.
- (b) Ханинова Р.М. Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья вторая // Новый филологический вестник. 2022. № 3. С. 435–448.
- (с) Ханинова Р.М. Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья третья // Новый филологический вестник. 2022. № 4. С. 439–456.
- Хатуев Н.С. Благословение двух Тар: стихи на калмыцком и русском языках. Элиста: Калмыцкое региональное отделение Союза российских писателей, 2018. 136 с.
- Хонинов М. «В нашем роду…» / пер. с калм. // Из семейного архива.
- Хоньна М. Байрин дуд: шүлгүд болн поэмс. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1960. 109 х.
- Хоньна М. Теегин шовун – тоhрун: шүлгүд болн поэмс. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1977. 73 х.
- Цацлын дееҗ (Задравное слово). Зүңһарин хальмгудын йөрəл, магталмуд болн хүрмин йосн / бүрдǝhǝч Н. Содмон. Элст: Хальмг дегтр һарһач, 1997. 176 х.
- Шараева Т.И. Этнические маркеры калмыков: исследования и материалы. Элиста: КалмНЦ РАН, 2017. 288 с.
- Эрендженов К.Э. Золотой родник: о калмыцком народном творчестве, ремеслах и быте. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1985. 125 с.