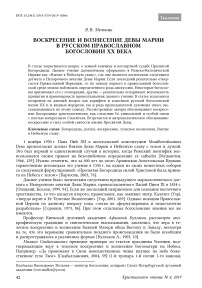Воскресение и вознесение Девы Марии в русском православном богословии ХХ века
Автор: Мельник Владислав Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (87), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагивается вопрос о земной кончине и посмертной судьбе Пресвятой Богородицы. Данное учение догматически оформлено в Римско-Католической Церкви как «Взятие в Небесную славу», где оно является логическим следствием догмата о Непорочном зачатии Девы Марии. Если последний решительно отвергается Православной Церковью, то по поводу первого в православной богословской среде можно наблюдать определенного рода дискуссию. Некоторые богословы принимают его с оговорками, другие - решительно оспаривают возможность принятия и правомерность провозглашения данного учения. В статье излагаются воззрения на данный вопрос как корифеев и классиков русской богословской науки ХХ в. и видных иерархов, так и ряда преподавателей духовных школ, высказывавшихся по этому поводу. Рассмотренные авторы обосновывают воскресение Богородицы христологически, как следствие Ее уникальной и особой связи с плотью воскресшего Спасителя. Встречается и антропологическое обоснование: воскресение в силу особой святости жизни Пресвятой Девы.
Богородица, догмат, воскресение, телесное вознесение, взятие в небесную славу
Короткий адрес: https://sciup.org/140246739
IDR: 140246739 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10066
Текст научной статьи Воскресение и вознесение Девы Марии в русском православном богословии ХХ века
1 ноября 1950 г. Папа Пий XII в апостольской конституции Munificentissimus Deus провозгласил догмат Взятия Девы Марии в Небесную славу с телом и душой. Это был первый и единственный случай в истории, когда Римский понтифик воспользовался своим правом на безошибочное определение ex cathedra [Мудьюгин, 1966, 129]. Нужно отметить, что за 600 лет до этого Армянская Апостольская Церковь торжественно исповедала это учение в 1345 г. на одном из своих поместных соборов со следующей формулировкой: «Пресвятая Богородица силой Христовой была принята на Небеса с телом» [Бартосик, 2003, 76].
Данное учение было логическим следствием предыдущего мариологического догмата о Непорочном зачатии Девы Марии, провозглашенного Папой Пием IX в 1854 г. [Огицкий, Козлов, 1999, 94]. Если же последний неприемлем для сознания восточного христианства, то что касается второго, православие, как заявляет митр. Каллист (Уэр), «твердо верит в Ее Телесное Вознесение» [Уэр, 2001, 269]. Однако позиция Православной Церкви по данному вопросу пока «четко не сформулирована и недостаточно разработана» [Сорокин, 1973, 86]. При этом отдельные богословские мнения все же имеются.
Профессор Киевской духовной академии Афанасий Булгаков , рассмотрев апокрифическую традицию и святоотеческие высказывания, заключил, что вера в телесное воскресение и вознесение Божией Матери обща Востоку и Западу, несмотря на то, что это верование сравнительно позднего происхождения не было всеобщим и распространялось в различных формах [Булгаков А., 1903, 10].
Михаил Скабалланович приводит примеры из текстов праздника Успения, подтверждающие веру в телесное воскресение и вознесение Богоматери на Небеса. Например: «Да провожают в Сион невещественные чины идущее на небо божественное тело Твое» [Скабалланович, 2004, 59] (1-й тропарь 1-й песни 1-го канона),
«Богородицу… не удержали гроб и смертность; ибо Ее, как Мать Жизни, преставил к жизни Поселившийся в (Ее) всегда девственной утробе» (кондак), «…смерть обручается с жизнью; по рождении (пребывая) девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, Твое наследие» [Скабалланович, 2004, 82] (задостойник). Ученый заключает, что Дева Мария, подобно Своему Божественному Сыну, «восторжествовала над смертью, хотя… не так славно, очевидно и самостоятельно, как Он» [Скабал-ланович, 2004, 7], и, в силу этого, Своими молитвами Она теперь может «избавлять от смерти души наши».
Протоиерей Сергий Булгаков считал, что православие фактически содержит «учение о воскрешении, вознесении на небо и небесном прославлении Богоматери» [Булгаков С., 1927, 122] и предполагает, что именно Богоматеринство Пречистой являлось залогом этого. В отличие от Своего Сына, смерть Которого была домостроительной, Богородица умерла естественной смертью в силу подвластности первородному греху. Но Ее смерть была преодолена и побеждена для Нее не собственной силой, но силой Христовой: «усопшая Богоматерь была пробуждена от успения Своим Сыном, Она была Им воскрешена… но это воскрешение лишь подтверждает силу и подлинность смерти» [Булгаков С., 1927, 122]. Вознесение на небо воскресшей Богоматери не означало удаление от мира и разрыв всякой связи с ним и с живущими в нем людьми. Тропарь праздника говорит о том, что Мария «во успении мира не оставила».
Патриарх Сергий (Страгородский) считает, что призвание Пресвятой Девы быть Матерью Господа было, безусловно, высочайшим и совершенно особым, исключительным служением, неповторимым в истории. Но не оно само по себе является основанием для возвеличивания Богоматери. Православная Церковь, по мысли святейшего, видит основания к прославлению в Ее кончине, т. е. в Успении. Патр. Сергий полагает, что «учение о вознесении Богоматери имеет несомненные вселенские корни» [Страгородский, 1973, 61], и понимает его следующим образом: «после телесной Своей смерти, Богоматерь не только бессмертной душой вступила в жизнь будущего века, но и плоть Богоматери, уподобившись плоти Воскресшего Господа Иисуса Христа, уже пережила то изменение из тления в нетление, которое ожидает остальных людей лишь после общего Воскресения» [Страгородский, 1973, 61]. «Первенец из мертвых» (1 Кор 15:20) — Христос, но именно Дева Мария является первым примером воскресения умерших для будущей жизни.
Протоиерей Георгий Флоровский говорит о том, что для Девы Марии «уже наступило исполнение того, что только предстоит человечеству» [Флоровский, 1998, 179], и что Ее изъятие из-под закона смерти было «не столько „наградой“ за Ее чистоту и добродетель, сколько необходимое следствие Ее служения как Матери Божией» [Флоровский, 1998, 179]. Также он отмечает, что все православное догматическое учение о Богоматери сводится к двум титулам, утвержденным III и V Вселенскими Соборами, — это, соответственно, «Богородица» и «Приснодева». Но богослужение праздника Успения, по его мнению, открывает нечто гораздо большее, и в данном случае именно литургическое свидетельство по своей значимости ничем не уступает свидетельству догматическому, ибо «конкретность символов подчас даже более жизненна, явственна и выразительна, чем иные логические концепции» [Флоровский, 2000, 152].
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) также считает это верование общецерковным преданием: «с глубокой верой принимаем мы, православные, и вся Римско-Католическая Церковь непреложное предание Церкви о воскресении и вознесении на небо Пресвятой Богородицы» [Лука Крымский, 2004, 53]. Ее кончина, считает он, была непохожа на смерть обычных людей, когда тело теряет всякую связь с земной жизнью. «Навсегда исчезла потребность во сне, пище и питии. Началась жизнь ангельская, но не прервалась связь духовная с миром земным» [Лука Крымский, 2004, 55]. Дева Мария была «Пречистым Храмом Спаса» и находилась с Ним в самой теснейшей связи, в силу чего «тело Пресвятой Богородицы было сохранено Богом от тления и вознесено на небо» [Лука Крымский, Пасха Господня].
Владимир Лосский полагает, что Пресвятая Богородица, еще прежде конца мира, уже стоит «по ту сторону смерти, воскресения и Страшного Суда» [Лосский, 2000, 334], т. е. мы здесь видим реализованную эсхатологию. Дева Мария — первая человеческая личность, уже достигшая той высшей цели, ради которой был создан мир — обожения твари. Однако Вл. Лосский был категорическим противником возведения данного учения в степень догмата, поскольку считал, что оно относится не к публичной проповеди Церкви, как, например, догмат о Троице и Воплощении, но ко внутренней церковной традиции, о тайнах которой говорить и мыслить слишком трудно [Лосский, 2000, 334].
Протопресвитер Александр Шмеман обращает внимание на тот факт, что в праздновании Успения важна не столько фактическая сторона дела, сколько та пасхальная радость, которая исполняет Церковь — предчувствие и предвосхищение Царствия Божия. Земная кончина Пречистой Девы лишена печали, страха и ужаса — песнопения праздника рисуют нам картину довольно торжественного погребения: смерть «побеждена изнутри, освобождена от всего того, что наполняет и ужасом, и безнадежностью… смерть становится жизнью и торжеством жизни» [Шмеман, 1989, 254]. Успение Пресвятой Богородицы — это «заря таинственного дня» будущего воскресения мертвых.
Профессор догматического богословия Московской духовной академии Василий Сарычев полагает, что второе сошествие Святого Духа на Деву Марию в день Пятидесятницы завершило обожение Ее человеческой природы и «явилось залогом Ее славного воскрешения» [Сарычев, 1955, 52]. Успение, по Сарычеву, — это «переход в другую область бытия, без подчинения закону тления и обычной загробной участи, связанной с ожиданием всеобщего воскресения… Она, воскреснув, вознесена к Своему Сыну и Богу, участвуя в Его славе как первая и высшая из всех сотворенных» [Сарычев, 1955, 54]. В иконографии Пятидесятницы Богородицу часто можно увидеть пребывающей в центре собора апостолов, что являет Ее преимущественное положение в Церкви как «средоточия обоженного творения» [Сарычев, 1973, 85].
Архиепископ Михаил (Мудьюгин) считает, что оба мариологических догмата Римско-Католической Церкви не имеют под собой никаких оснований ни в Священном Писании, ни в древнем Предании, обладающем церковным авторитетом [Мудьюгин, 1966, 131], более того, они имеют отрицательное значение и создают дополнительные препятствия к единению христиан [Мудьюгин, 1966, 132].
Протоиерей Алексий Князев , профессор Свято-Сергиевского института в Париже, высказывает интересную мысль: воскресение Девы Марии было плодом действия Святого Духа, по слову апостола Павла: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим 8:11). И когда в воскресении Христа Сама Жизнь победила смерть, то это, в первую очередь, сказалось на Той, Которая родила эту Жизнь по плоти. Дева Мария воскресла силой Святого Духа, «жизни Подателя», которая преображает и преодолевает закон тления: «Божия Матерь воскресла, потому что такова была сила победы над смертью, одержанной Ее Сыном… победа над смертью уже была одержана и одержали ее одновременно Две Божественные Ипостаси, сошедшие в мир: Сын как Искупитель человеческого рода и Дух Святой как податель Жизни» [Князев, 1971, 77].
Протоиерей Владимир Сорокин настаивает на том, что Восток, тщательно сохраняя предание неразделенной Церкви о вознесении Девы Марии на небо, ничего не добавляет к нему нового и не стремится его сделать догматом. По сути, Православная Церковь сохраняет «то неопределенное положение вещей, которое сложилось к моменту разделения христианства» [Сорокин, 1973, 77]. Он заключает, что «вопрос о кончине Ее остается открытым» [Сорокин, 1973, 87].
Итак, мы видим, что как Православная, так и Римско-Католическая Церковь, опираясь на одни и те же источники, твердо содержат учение о телесном воскресении, вознесении и прославлении Пресвятой Богородицы [Кудласевич]. Большинство православных богословов считают его общецерковной кафолической истиной. Однако при всем своем внешнем сходстве, которое действительно наблюдается, нельзя признать внутреннюю вероучительную тождественность этого верования, как оно понимается Востоком и Западом. Православное богословие не стремится оформить это учение догматически и указывает на его принципиально иные богословские предпосылки.
Большинство богословов обосновывает такую «привилегию» преждевременной и реализованной эсхатологии для Богородицы христологически — в силу Ее уникальной и неповторимой связи с воскресшей и прославленной плотью Богочеловека Иисуса Христа. «Предвосхищая общее воскресение мертвых, ее Сын соделал Свою Матерь неотделимой частью Своего воскресшего Тела» [Мейендорф, 2013, 181]. Но встречается и другая позиция — воскрешение было даром Деве Марии за исключительную святость Ее жизни, т. е. здесь мы видим антропологическое обоснование.
Что же касается оценки католического догмата с православной точки зрения, нам представляется оптимальной позиция протопресвитера Александра Шмемана, который, в тоне дружественного экуменического диалога, заявил, что нельзя эсхатологическую тайну объяснять рационально [Levering, 2015, 156], поскольку язык падшего человеческого мира не в состоянии описать такие реальности. Восточное богословие, которое сознаёт преимущество апофатического пути, знает: где нельзя сказать ясно — лучше промолчать, и вместо того, чтобы быть голословным, лучше остановиться перед тайной.
Некоторые православные богословы выступили с критикой католического догмата по той причине, что он имеет под собой ошибочный и неприемлемый богословский базис — догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, который ведет и к другим выводам из этого учения — о соискуплении и о Деве Марии как посреднице благодати. С православной точки зрения, здесь приходится признать неудачный и даже опасный прецедент догматического развития мариологии в Римско-Католической Церкви [Васечко, 2009, 49].
Остается заключить, что праздник Успения Девы Марии, или «Богородичной Пасхи» (ведь богослужение содержит пасхальные мотивы — торжество над смертью, сопричастность смерти и воскресению Христа [Василик]), ежегодно напоминает всему христианскому миру, что тот путь, по которому прошел Христос, открыт для всех членов Церкви, и видимым подтверждением телесного воскресения является пример Его Пречистой Матери.
Список литературы Воскресение и вознесение Девы Марии в русском православном богословии ХХ века
- Бартосик Г. Богородица в богослужении Востока и Запада. 2003. 184 c.
- Булгаков А., проф. О принятии еще одного нового догмата в римском католицизме. Киев, 1903. 22 c.
- Булгаков С., прот. Купина неопалимая. Париж: YMCA-Press, 1927. 288 c.
- Васечко В., свящ. Сравнительное богословие. М.: ПСТГУ, 2009. 112 c.
- Василик В., диак. Источник жизни во гробе полагается. URL: http://www. pravoslavie.ru/48300.html (дата обращения: 29.05.2019).
- Князев А., прот. Великое знамение Царствия Небесного и его пришествия в силе // Православная мысль. Труды православного Богословского института в Париже, 1971. Вып. 14. С. 62-83.
- Кудласевич Н. Католический догмат о телесном вознесении Девы Марии и православное учение об Успении Пресвятой Богородицы. URL: http://ruskline. ru/monitoring_smi/2016/08/31/katolicheskij_dogmat_o_telesnom_voznesenii_devy_marii_i_ pravoslavnoe_uchenie_ob_uspenii_presvyatoj_bogorodicy/ (дата обращения: 29.05.2019). Теология 45
- Лосский В. Н. Всесвятая // Богословие и боговидение. М.: Издание Свято-Владимирского братства, 2000. С. 320-336.
- Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Пасха Господня. URL: https://azbyka.ru/ otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/pasha-gospodnja/ (дата обращения: 29.05.2019).
- Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Проповеди. Издание Симферопольской и Крымской епархии, 2004. Т. IV. 188 c.
- Мейендорф И., протопр. Христос как Спаситель в учении Восточной Церкви // Пасхальная тайна. М.: Эксмо, 2013. С. 170-193.
- Мудьюгин М., прот. Православная трактовка развития римско-католической мариологии за последнее столетие // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. 1966. № 53. С. 35-45; № 54-55. С. 123-138.
- Огицкий Д. П., Козлов М., свящ. Православие и Западное христианство. М.: МДА, 1999. 176 c.
- Сарычев В., доц. Учение Православной Церкви о почитании Божией Матери // Журнал Московской Патриархии. 1955. № 12. С. 48-55.
- Сарычев В., проф. О почитании Божией Матери // Богословские труды. 1973. Вып. XI. С. 78-89.
- Скабалланович М. Успение Пресвятой Богородицы. К.: Пролог, 2004. 162 c.
- Сорокин В., прот. Догмат римско-католической церкви о взятии божией матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. 1973. Вып. Х. С. 67-89.
- Сергий (Страгородский), патр. Почитание Божией Матери по разуму Святой Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. 1973. № 9. С. 57-61.
- Каллист (Уэр), еп. Православная Церковь. М.: ББИ, 2001. 376 c.
- Флоровский Г., прот. Приснодева Богородица // Догмат и история. М.: Издание Свято-Владимирского братства, 1998. С. 165-180.
- Флоровский Г., прот. Кафоличность Церкви // Избранные богословские статьи. М.: «Пробел», 2000. С. 141-158.
- Шмеман А., протопр. Воскресные беседы. Париж: YMCA-Press, 1989. 256 с.
- Levering M. Mary’s Bodily Assumption. University of Notre Dame Press, 2015.