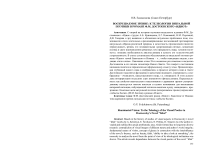Воскрешаемое зрение: к телеологии визуальной поэтики в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»
Автор: Евдокимова Ольга Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
С опорой на историю изучения визуального в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» (труды А.Б. Криницына, Е.Г. Новиковой, Н.М. Перлиной, Д.В. Токарева и др.) выявлено и обозначено актуальное проблемное поле, сложившееся в итоге длительных и разнонаправленных исследований: противоречие визуальных образов различной природы и целостность произведения писателя; первосущность зрения, его познавательная «разрешающая оптика», концепция взгляда в свете взаимовлияния романных тем прекрасного, веры, «умения взглянуть»; показана необходимость анализа романа в аспекте его телеологической устремленности. В статье установлена обусловленность визуальной поэтики романа «Идиот» темой Евангелия от Иоанна - «.чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Окончание стиха 39-го несколько раз отмечено и выделено Достоевским в его личном экземпляре Нового Завета. Это говорит о постоянном внимании писателя к парадоксально оформленному смыслу темы. Проанализирован глубинный диалог слова и изображения, в процессе которого слово в тексте Достоевского наделяется функциями и качествами видящего, узревающего, а изображение - очевидного, представленного взору, т.е. говорящего. В этом аспекте дана интерпретация последних сцен знаменитого финала романа. Парадоксальность как свойство евангельского повествования о даровании зрения слепорожденному наследуется текстом писателя и служит основанием для воплощения авторской интенции, побуждающей читателя оказаться в ряду «невидящих», прозревших. Конечные цели визуальной поэтики (воскрешаемое зрение) определяют «событие бытия» (М.М. Бахтин) в романе «Идиот».
Ф.м. достоевский, роман «идиот», евангелие от иоанна, тема дарования зрения, визуальная поэтика, «событие бытия»
Короткий адрес: https://sciup.org/149139953
IDR: 149139953
Текст научной статьи Воскрешаемое зрение: к телеологии визуальной поэтики в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»
Пытаясь понять «механизм» взаимодействия, взаимосвязи героев в романе «Идиот», А.Б. Криницын назвал созданный Достоевским тип отношений «визуальным» [Криницын 2001, 170-205].
«В конечном итоге беспрерывные “вглядывания” героев друг в друга начинают целиком определять их взаимоотношения, а также восприятие ими действительности в целом» [Криницын 2001, 174], - считал исследователь, анализируя Мышкина «как визионера», «мышление видениями», картины, описанные в романе и играющие «роль мистико-философского подтекста» [Криницын 2001, 180].
В последние двадцать лет изучение образов визуального в романе «Идиот» постоянно расширяется. Исследуется экфрасис картины Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос» [Димитриев, Кибальник, Тарасова 2020, 569-579; Токарев 2013, 61-109], установлен экфрастический сюжет, имеющий в основе пять картин, фиксирующих визуальное полотно Достоевского [Новикова 2016]. Труд Н.М. Перлиной «Тексты-картины и экфразисы в романе Ф.М. Достоевского “Идиот”» побуждает говорить о романе-экфрасисе [Перлина 2017].
В книге современного поэта, филолога, богослова О.А. Седаковой «Путешествие с закрытыми глазами. Письма о Рембрандте» [Седакова 2016], вышедшей из печати в 2016 г, одной из главных является тема видения, зрения в их существе, первоначалах. Следуя за размышлениями О.А. Седаковой, Е.С. Бондаренко в работе «Тема зрения и взгляда в романе Ф.М. Достоевского “Идиот” в свете актуальных теорий визуального (М. Мерло-Понти, О.А. Седакова)» [Бондаренко 2017] только в первой части текста обнаружила 201 фрагмент, в котором присутствует или развивается тема зрения. Приведем некоторые данные статистического анализа: «“Глаза” (64), “видеть” (59), “увидеть” (22), “видывать” (4), “свидетель” (4), “видеться” (1), “повидаться” (1), “предвидеть” (1), “смотреть” (59), “посмотреть” (21), “рассматривать” (11), “всматриваться” (3), “осматриваться” (3), “подсматривать” (1), “засматривать” (1), “взгляд” (40), “взглянуть” (18), “всматриваться” (36), “глядеть” (33) <...>» [Бондаренко 2017, 15].
Природа, специфика зрения в их проекции на тип изображения - актуальная тема современной гуманитарной науки [Ямпольский 2019]. В исследованиях, посвященных изучению творчества Достоевского, сложилось представление об ориентации его произведений на различные типы изображения: роман «Идиот» - на картинный, роман «Бесы», повесть «Кроткая» - на зримость жеста [Отева 2019].
Каждый этап изучения визуальной поэтики романа «Идиот» ставит все более сложные проблемы. Обозначим назревшие: есть ли в тексте Достоевского «конфликт» между иконописным и картинным способами изображения; права ли Н.М. Перлина в том, что для писателя важен только экфрасис - «способ словесной передачи полных “жизненности” образных представлений...» [Перлина 2017, 32]; нужно ли говорить именно о противоречии между визуальными образами разной природы и порядка, если иметь в виду феномен зрения, глубину взаимосвязи (синтеза в противоречии) между словом и изображением, взаимовлияние романных тем взгляда, прекрасного, веры?
О том, каковы возможные пути воплощения прекрасного, Достоевский так писал С.А. Ивановой, размышляя о своем романе: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо - Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уже конечно есть бесконечное чудо. (Все Евангелие Иоанна в этом смысле; он все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного)» [Достоевский 1988-1996, XV, 343-344].
Если понимать роман как визуальный и акцентировать в письме автора повествования о князе Мышкине темы «воплощения», «появления», то нельзя не связать образ прекрасного в произведении с одной из константных тем Евангелия от Иоанна - темой дарования зрения. Евангельские «отражения» в романе «Идиот» постоянно находятся в поле зрения ученых-филологов [Соломина-Минихен 2016; Тихомиров 2012], но не тема дарования зрения в ее соотнесении с визуальной поэтикой текста.
Самым парадоксальным повествованием, развивающим в Евангелии данную тему, будет рассказ о том, как был исцелен человек, слепой от рождения.
Парадоксально, т.е. противоречит «“доксе” <...> господствующему, общепринятому мнению, ожиданию» [Шмид 2001, 9], в этом повествовании все. Прежде всего то, что человек слеп от рождения «для того, чтобы на нем явились дела Божии» [Ин. 9:3], «доколе Я в мире, Я - свет миру» [Ин. 9:5]. Глаза слепца были сделаны из «брения» и «плюновения», умывшись в купальне Силоам - «Посланный», слепорожденный стал «зрячим», «прозревшим» - верным.
«Прозревший» ничего не объясняет, не пытается понять, он все знает: «.. .был слеп, а теперь вижу» [Ин. 9:25]. Зрение здесь безусловно, оно просто есть, как и вера: «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и
Он говорит с тобою» [Ин. 9:35-37]. Подчеркнем путь узрения: «видел» и «говорит».
Пришествие Спасителя подано в повествовании как пришествие на суд, парадоксальность цели прихода для бытового сознания почти неизъяснима: «...чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» [Ин. 9:39]. О характерной «библейской парадоксальности» писал С.С. Аверинцев, в частности в исследовании «Поэтика ранневизантийской литературы» [Аверинцев 1997]. В повествовании о даровании зрения слепорожденному это свойство является структурирующим.
«Событие бытия» (М.М. Бахтин) в романе «Идиот» и совершается в столкновении видящих и невидящих, в усилиях автора побудить к прозрению, поэтому в едином интенциальном, реминисцентном поле находятся герои и читатель. Покажем это, воспользовавшись герменевтическим принципом - представить целое по его части.
Один из локусов текста, в котором концентрированно вспоминаются темы евангельского повествования о даровании зрения слепорожденному, - главы V VIII первой части (Мышкин у Епанчиных), сцены, показывающие, представляющие героя.
В начале главки пятой о глазах сказано так, что читатель провоцируется обратить внимание на тему зрения, взгляда. Сообщение генерала Епанчина о возможном знакомстве с Мышкиным вызвало у Елизаветы Прокопьевны реакцию, к которой она прибегала «в крайних случаях»: «чрезвычайно выкатила глаза», «в глубочайшем изумлении стала опять перекатывать глаза с дочерей на мужа и обратно» [Достоевский 2013-2020, VIII, 50].
Спрашивая князя, с которым, по словам Ивана Федоровича, «можно еще в жмурки играть» [Достоевский 2013-2020, VIII, 50], генеральша не сводила с него глаз, за завтраком усадила против себя, чтобы «смотреть», рассматривать.
Тема зрения, по мере движения повествования, развивается развет-вленно. То, что князь - «вовсе не идиот», не узнали, а узрели: «...я давно это вижу» [Достоевский 2013-2020, VIII, 54]. От крика осла в голове Мышкина именно «прояснело», введено слово, связанное с ясностью, со светом. Князь побуждается рассказать, как он «выучился глядеть» [Достоевский 2013-2020, VIII, 56] за границей. Так вводится тема сюжета для картины, который и определен умением «взглянуть».
«Взглянуть не умею» [Достоевский 2013-2020, VIII, 56] - слова «художницы» Аделаиды и ответ на них «совершенного ребенка» Елизаветы Прокофьевны - легко узнаваемая реминисценция евангельского повествования о даровании зрения слепорожденному: «Да что вы загадки-то говорите? ничего не понимаю! - перебила генеральша: - как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь» [Достоевский 2013-2020, VIII, 56]. Для того, чтобы уметь взглянуть, просто нужны глаза. Евангельский смысл такого условия: иметь глаза, глядеть - быть верным, прозревшим. Закономерна в этом отношении следующая главка 154
повествования, которая завершается прозрением - узрением прекрасных лиц сестер Епанчиных и Елизаветы Прокофьевны, т.е. воплощением их.
В картине, которую Мышкин предлагает нарисовать Аделаиде, приговоренный к казни показан тоже как прозревающий: «Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностию протягивает свои синие губы и глядит, и - всё знает. (Курсив автора - О. Е.). Крест и голова - вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу, -все это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара. .. Вот какая картина» [Достоевский 2013-2020, VIII, 63].
Этот текст в науке о Достоевском изучается как «полный экфрасис» [Новикова 2016, 60], но классическое определение экфрасиса противоречит данному положению. Н.В. Брагинская показала, что в экфрасисе словесному описанию обязательно предшествует изображение (картина, скульптура, архитектурное произведение): «Мы называем так (экфраси-сом - О. Е.~) только описания произведений искусства... <.. .> И, наконец, мы называем экфразой описания не любых творений человеческих рук, но только описания сюжетных изображений» [Брагинская 1977, 264].
В романе «Идиот» картина создана только словом, способностью глядеть, реализованной в слове. Живописное изображение не предшествует здесь слову, визуальный образ возникает из дара слова, из дара зреть и являть в слове.
Определенно названо то, что нужно нарисовать на картине: эшафот, последнюю ступень, ступившего на нее преступника, лицо его, священника, крест, синие губы... Обозначены планы изображения: «как бы на третьем плане», сказано, чтобы все это было «видно». Собственно же картину, ее центр, визуальный смысл образуют слова «крест» и «голова». Первосмысл взгляда конкретно обозначен и не объяснен: «...глядит, и - все знает». Эта формула отсылает к смыслам евангельского повествования о даровании зрения слепорожденному - «был слеп, а теперь вижу», иначе нельзя понять, что же знает ступивший на последнюю ступень и что же значит «все».
Изображение (картинное) обращено здесь к природной способности видения, к тому, что очевидно; невыразимое же заключено в слове («глядит, и - все знает»), подчеркнута неразрывность глядения и глубинного знания, т.е. дар прозрения, тайнозрения. Цель парадоксальной связи слова и изображения - создать событие и «форму события» (М.М. Бахтин), при созерцании которых «невидящие видели, а видящие стали слепы» [Ин. 9:39].
В евангельском повествовании о даровании зрения слепорожденному Достоевский разными способами отметил (отчеркнул карандашом, ногтем справа, знаком NB) многие стихи (2, 3, 4, 25, 34, 39, 40, 41). «Окончание стиха 39-го дважды отчеркнуто карандашом и отмечено знаком NB» [Тихомиров 2010, 317], - показал Б.Н. Тихомиров, говоря об отражениях евангельского слова в текстах писателя. Для комментария в данном аспекте ученый предложил фрагмент только из романа «Братья Карамазовы»: «“Вотъ из толпы восклицаетъ старикъ, слепой съ детских лет: “Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю”, и вотъ какъ бы чешуя сходить с глаз его и слЕпой Его видить”» [Тихомиров 2010, 317]. В романе «Идиот» темы видящих и слепых, невидящих и узревших активны на протяжении развития повествования в целом. Среди локусов текста, в которых темы выражены концентрированно, кроме уже проанализированного нами, - именины Настасьи Филипповны, начало второй части («глаза» Рогожина - крик Мышкина «Парфен, не верю!»), экфрасис картины Ганса Гольбейна, встреча соперниц, финал.
В двух последних абзацах знаменитого финала романа повествование последовательно и настойчиво развивает тему невидящих и видящих в сложном диалоге слова и изображения: «Когда Рогожин затих (а он вдруг затих), князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать» [Достоевский 2013-2020, VIII, 559]. Тема «головы» и «креста», возникшая при описании картины для Аделаиды, в этом фрагменте повествовательно развернута, но текст также организован «умением» героя «взглянуть». Завершение абзаца отсылает не только к словесной картине, созданной Мышкиным в первой части, но и к первосмыслу зрения, сформулированному там: «Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них...» [Достоевский 2013-2020, VIII, 560].
«Всё» может знать здесь уже не герой, а читатель - «невидящий», если он умеет «взглянуть» не так, как глядели вошедшие утром в дверь люди, зрители казни на картине для Аделаиды, те, кто не мог понять, почему и как даровано зрение слепорожденному. Закономерно, что последний абзац романа «Идиот», начинающийся словами «по крайней мере, когда» и завершающийся приговором «Идиот», оформлен как картина вполне в логике аналитического реализма. Обозначены рама картины (проем двери) предмет изображения (убийца, князь, сидящий «на подстилке»). Видят это вошедшие люди («видящие»). Дана оценка увиденного в ракурсе врача. Своей визуальной конкретностью и однозначностью этот текст (о слепцах) подчеркивает глубину прозрения - верности, воплощенную в предшествующей словесной картине.
Формы взаимодействия слова и изображения в повествовании Достоевского, парадоксальность их функций, когда слово визуализирует, делает видимым, обращено к пониманию, а изображение говорит, объясняет, -все это направлено к цели воскресить умение «взглянуть». Если задаться вопросом, что же именно могли узреть вошедшие в дверь, то на основе текста может быть дан только один ответ: «Князь сидел подле него (Рогожина - О. Е.) неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах 156
крика или бреда больного, спешил провесть дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его» [Достоевский 2013-2020, VIII, 560]. Для «невидящих» свет верности, визуализированный в этих словах, резко контрастирует с очевидностью приговора - «Идиот». Финал романа, возвращая читателя к первой части, побуждает вспомнить слова Настасьи Филипповны, обращенные к князю Мышкину: «Прощай, князь, в первый раз человека видела!» [Достоевский 2013-2020, VIII, 163].
Прозревший в евангельском повествовании именуется не только слепцом, слепорожденным, а именно «человеком» [Ин. 9:1-41] исцеленным. В романе «Идиот» подобная авторская интенция направлена не только на героя, но и на читателя в стремлении подтолкнуть его к видению. В этом тексте в большей мере, чем в любом другом произведении Достоевского, автор устремлен к «снятию безопасной дистанции между героем и читателем: последний втянут в круг вопросов, ответы на которые невозможно отложить, они предъявлены к разрешению в едином времени текста и действия» [Исупов 2016, 88].
Список литературы Воскрешаемое зрение: к телеологии визуальной поэтики в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»
- Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. 343 с.
- Бондаренко Е.С. Тема зрения и взгляда в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» в свете актуальных теорий визуального (М. Мерло-Понти, О.А. Седакова): выпускная квалификационная работа бакалавра. СПб., 2017. 92 с.
- Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста (К проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М.: Наука, 1977. С. 259-283.
- Димитриев В.М., Кибальник С.А., Тарасова Н.А. Примечания («Идиот») // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: в 35 т. Т. 9. СПб.: Наука, 2020. С. 436-864.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Л.: Наука, 1988-1996.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: в 35 т. СПб.: Наука, 2013-2020.
- Иванов В.И. Достоевский и роман-трагедия // Иванов В.И. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 282-306.
- Исупов К. Метафизика Достоевского. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 199 с.
- Криницын А.Б. О специфике визуального мира у Достоевского и семантике «видений» в романе «Идиот» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М.: Наследие, 2001. С. 170-205.
- Новикова Е.Г. «Nous serons avec le Christ». Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Томск: Изд-во ТомГУ, 2016. 244 с.
- Отева К.Н. Поэтика жеста в повести Ф.М. Достоевского «Кроткая» // Studia Rossica Gedanensia. 2019. № 6. C. 118-124.
- Перлина Н. Тексты-картины и экфразисы в романе Достоевского «Идиот». СПб.: Алетейя, 2017. 288 с.
- Седакова О. Путешествие с закрытыми глазами. Письма о Рембрандте. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016. 118 с.
- Соломина-Минихен Н.Н. О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот». СПб.: Скифия, 2016. 231 с.
- Тихомиров Б. Христология Достоевского // Тихомиров Б. «.Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Статьи и эссе о Достоевском. СПб.: Серебряный век, 2012. С. 28-21.
- Тихомиров Б.Н. Отражение Евангельского слова в текстах Достоевского. Материалы к комментарию // Евангелие Достоевского. Исследования. Материалы к комментарию. М.: Русскш Мiръ, 2010. С. 63-469.
- Токарев Д. Дескриптивный и нарративный аспекты экфрасиса («Мертвый Христос» Гольбейна - Достоевского и «Сикстинская мадонна» Рафаэля -Жуковского) // «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 61-109.
- Шмид В. Заметки о парадоксе // Парадоксы русской литературы. СПб.: ИНА ПРЕСС, 2001. С. 9-16.
- Ямпольский М. Изображение. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 413 с.