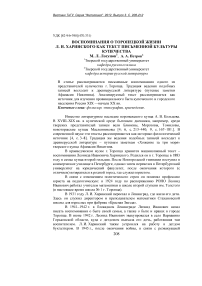Воспоминания о торопецкой жизни Л. И. Харинского как текст письменной культуры купечества
Автор: Логунов Михаил Львович, Петров Алексей Андреевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются письменные воспоминания одного из представителей купечества г. Торопца. Традиция ведения подобных записей восходит к древнерусской литературе (путевые заметки Афанасия Никитина). Анализируемый текст рассматривается как источник для изучения провинциального быта купеческого и городского населения России XIX —начала XX вв.
Фольклор, этнография, краеведение
Короткий адрес: https://sciup.org/146121002
IDR: 146121002 | УДК: [82-94+398](470.331)
Текст научной статьи Воспоминания о торопецкой жизни Л. И. Харинского как текст письменной культуры купечества
Известно литературное наследие воронежского купца А. В. Кольцова. В XVIII–XIX вв. в купеческой среде бытовали дневники, например, среди тверских представителей записи вели Блиновы, Морозовы, Томиловы, новоторжские купцы Масленниковы [4; 6, с. 213–440; 9, с. 167–181.]. В современной науке эти тексты рассматриваются как историко-филологический источник [4, с. 3–8]. Традиция же ведения подобных записей восходит к древнерусской литературе – путевым заметкам «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина.
В краеведческом музее г. Торопца хранится машинописный текст – воспоминания Леонида Ивановича Харинского. Родился он в г. Торопце в 1883 году в семье купца второй гильдии. После Новгородской гимназии поступил в коммерческое училище в Петербурге, однако затем перевелся в Петербургский университет на юридический факультет, после окончания которого (с отличием) возвратился в родной город, где служил юристом.
В связи с изменением политического строя он поменял профессию юриста на педагогическую: в 1924 году по распоряжению РОНО Леонид Иванович работал учителем математики в школе второй ступени им. Толстого (в настоящее время школа № 1 г. Торопца).
В 1931 году Л. И. Харинский переехал в Ленинград, где жили его дети. Здесь он служил директором и преподавателем математики Стахановской школы для взрослых при фабрике «Красная Звезда».
В 1941–1942 г. в блокадном Ленинграде Леонид Иванович начал писать воспоминания о быте своей семьи, а также о быте и нравах в городе Торопце. В июне 1942 г. Леонид Иванович эвакуировался в село Варнавино Горьковской области, куда с детдомом выехала его дочь, работавшая там воспитателем. Л. И. Харинский также устроился на работу в детдом бухгалтером. В 1945 г., после окончания войны, в связи с реэвакуацией 208
детдома он вернулся в Ленинград и преподавал математику в школе до 1955 года.
Скончался Л. И. Харинский в 1957 году. Похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде [1, л. 1].
Что же представляют собой воспоминания Л. И. Харинского? Ведутся они в хронологическом порядке и охватывают период с конца XIX вв. по первую половину ХХ в. В художественной форме Леонид Иванович пишет об истории его семьи и родных мест.
Какие сведения, кроме семейной истории, можно почерпнуть из «Воспоминаний» Харинского? Во-первых, описание быта городского населения провинциального города в к. XIX – н. ХХ вв.: «Помню, как всех нас, четверых детей, почти каждый день мать возила зимой кататься на лошади, которую отец держал, как это было принято у многих горожан даже со средним достатком (здесь и далее сохранена орфография и пунктуация машинописи – М. Л. , А. П. )» [1, л. 8]. Таким образом, мы узнаем, что у горожан было принято держать лошадей. Эти сведения Л. И. Харинский подает через личное восприятие: «Так вот нашу лошадь запрягали в городские сани, в которые садилась мать со всеми нами, и мы в течение получаса или часа ездили по улицам города, заезжая в окраинные улицы, где зима была особенно красива. <…> Освеженные морозным воздухом и напоив кровь кислородом, мы бодрые с румяными щеками возвращались домой, мать обязательно давала всем нам по полрюмочки виноградного вина или даже глоток водки» [1, л. 9].
Упоминаются в тексте и религиозные православные праздники, например Соборное воскресенье: «Тут кстати вспомнить и так называемое “соборное воскресенье” – первое воскресенье Великого поста, – когда по какому-то старинному обычаю покупались разные сласти и орехи и ими угощались или родные или близкие и хорошие знакомые. <…> Так или иначе, но в этот день обыкновенно был большой базар, на который съезжалось и сходилось много крестьян, и они также покупали сборные сласти и угощали ими своих знакомых девушек» [1, л. 12]. Также описываются Покров, Рождество, Крещение и другие праздничные дни. То, что записи основываются на детских впечатлениях автора, указывает на продолжение традиций русской литературы ХХ в. – именно в 30–40-е гг. создается «Лето Господне» И. С. Шмелева, в котором все происходящее также описывается ребенком.
Содержатся в воспоминаниях сведения и о народных обрядах и обычаях: «В другой весенний праздник «Сороки» (кажется, 9 марта ст.<арого> ст.<иля>) запекались маленькие колобочки из теста и поджаривались на скоромном масле для нас, детей, и на постном – для отца и матери, которые имели обыкновение постись весь пост. В этот же день выпекались булочки в виде птичек, очевидно, в связи с прилетом первых весенних жаворонков, причем в одну из этих булочек запекали новую серебряную монету в 10 коп.<еек> (гривенник). Тот из нас, кому попадалась птичка с этой монетой, считался наиболее счастливым на этот год…» [1, л. 12]. Мы видим, что в купеческой среде отмечали те же праздники, что и в крестьянской. Вот как описывает одна из жительниц Торопца этот же праздник: «Птичку, бывало, сделают. Вот делали мы. Бывало, мамка затвóрит тесто, мы сделаем птички, делали птичек. Ну, птички так делаешь. А потом катаешь сорок яичек. Сорок яичек катаешь и спечется, и в божницу ложили. Ну, божница знаешь что такое? И потом вот с этих сóроков должно быть сорок морозов, пройдет. <…> Ну, птичек таких налепишь птичек и сорок яичек. И каждое утро мороз встаешь. Мороз — яичко это съишь. Завтра опять мороз — опять яичко съишь. Ну, а потом и птичек съедали. <…> Птички там две делали всегда больших (примерно с ладонь — А. П., М. Л.) <…> и потом маленьких там полепишь, маленьких птенчиков» [2].
Приводятся в воспоминаниях и уникальные сведения о театре в Торопце. Во-первых, Л. И. Харинский описывает кукольный театр: «К зимним развлечениям этого периода моей жизни относились и такие, которые проходили вне дома. Один предприимчивый гражданин, по профессии сапожник, Пузанков (имя и отчество не помню) устроил у себя в доме кукольный театр (немой) для детей с платой за вход 5 коп.<еек>, и вот нас возили туда, правда, редко, так как программа почти никогда не менялась. Всех картин я не помню, но две последние крепко врезались в мою память: волнующееся море, по которому плавали лебеди (?) и большой корабль на парусах; этот корабль от чего-то взрывается и тонет; и последняя картина – война с турками – сражение с выстрелами и летающими горящими бомбами, со штыковым боем и, конечно, с победой русских. Все это были несложные по своей конструкции постановки, но для нас казались, действительно, живыми и все кукольные персонажи Tver State University живыми людьми» [1, л. 14]. Одно из первых описаний кукольных представлений в начале 1860-х гг. г. Торопца мы находим у М. И. Семевского, который пишет о двух кукольниках – башмачнике В. К. Михайлове (Клиш) и его ученике Чиже. Семевский писал об угасании традиции таких представлений, у Харинского, видимо, описан один из последних представителей этой профессии в данной местности [5, с. 356–366].
Во-вторых, Леонид Иванович пишет о народном театре: «Тот же самый Пузанков или другой предприниматель ставил спектакль и с живыми персонажами. Название пьесы не помню, но сюжет заключался в убийстве какого-то сказочного царя. На это представление нас не возили, но когда я уже подрос, эти спектакли прекратились, так как в город стали съезжаться странствующие артисты и труппы. Чуть-чуть помню наши первые посещения приезжего цирка, где нам особенно нравился один акробат и дрессировщица лошади, а потом спектакли малороссийской труппы, впервые заехавшей в Торопец. Все эти спектакли (и цирковые и драматические) давались в городском манеже за отсутствием театра» [1, л. 15]. В справочной литературе указывается, что народный театр в Торопце был организован в 1903 г. [9, с. 109–110], однако сведения из воспоминаний Харинского показывают, что этот театр существовал в городе уже в конце XIX в.
В книге М. И. Семевского «Торопец: Уездный город Псковской губернии. 1016 – 1864 гг.» описаны субботки – вечерние посиделкимолодежи [8, с. 43]. Воспоминания Л. И. Харинского дают ряд уточнений к этому обычаю: «К развлечениям для взрослых, на одном из которых пришлось побывать и мне, относились в тот период моего детства и так называемые посиделки или субботки, которые устраивались обыкновенно по субботам. Этот вид увлечений состоял в том, что молодые девушки собирались у какой-нибудь бобылки и, расположившись на особых скамьях, устроенных наподобие банного полка в несколько ярусов, пели песни. Сюда же приходили и мужская молодежь; по заказу кого-нибудь из мужчин девушки исполняли тот или другой номер своего репертуара, за что получали от него угощение конфетами или пряниками, которыми бойко торговала тут же предприимчивая бобылка. Между мужчинами иногда завязывалось пари: кто-нибудь брался перебить пальцем определенное количество пряников (больших, удлиненной формы) и, если это ему удавалось, пряники поступали к нему; если же нет, выплачивал своему партнеру соответствующую сумму денег. Часть выигранных таким образом пряников отдавалась девушкам, которые за это пели что-нибудь в честь выигравшего. Таких “клубов” в Торопце было, как мне передавал один знакомый старше меня (И. Г. К.), несколько, и между ними шла большая конкуренция; но большей популярностью пользовался тот, где лучше было убранство комнаты и, главным образом, лучше был украшен фонарь, которым освещалось помещение. Эти “посиделки” иногда приводили и к более серьезным последствиям, чем просто увеселение: иногда на них между молодыми людьми и девушками завязывались более близкие отношения, которые приводили их в дальнейшем к браку, и свадьба обыкновенно справлялась на “Красной Горке”; так называлось время после Паски» [1, л. 15].
Таким образом, воспоминания Л. И. Харинского восходят к купеческой традиции деловых записей и дневников XVIII–XIX вв., истоки же этого явления мы находим в деловой письменности Древней Руси. Записи Харинского наряду с воспоминаниями других торопчан (например, Л. И. Никитиной [7, с. 257–267]) дают представление о жизни в провинциальном городе к. XIX – н. ХХ вв. Леонид Иванович начинает писать воспоминания в блокадном Ленинграде – это указывает на связь его работы с дневниковой культурой этого периода [3, с. 24–59].
В связи с тем, что данный текст содержит разнообразную информацию, которая будет интересна для исследователей разных направлений (историков, фольклористов, диалектологов, краеведов), то необходимо издание данных воспоминаний с комментариями.
Department of the Russian language 2Tver State University
Department of the history of Russian literature