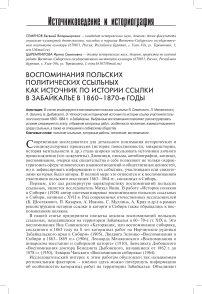Воспоминания польских политических ссыльных как источник по истории ссылки в Забайкалье в 1860-1870-е годы
Автор: Семенов Е.В., Цыремпилова И.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Источниковедение и историография
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются воспоминания польских ссыльных Я. Сивинского, Л. Менжинского, Л. Зелонко, Б. Дыбовского, Э. Чапского как исторический источник по истории ссылки участников польского восстания 1863-1864 гг. в Забайкалье. Выбранные воспоминания позволяют реконструировать условия следования по этапу, отбывания каторжных работ, особенности поселения, взаимоотношения в среде ссыльных, а также их отношение к сибирскому обществу.
Польские ссыльные, каторжные работы, поселение, воспоминания
Короткий адрес: https://sciup.org/170200666
IDR: 170200666 | DOI: 10.31171/vlast.v31i5.9829
Текст научной статьи Воспоминания польских политических ссыльных как источник по истории ссылки в Забайкалье в 1860-1870-е годы
С овременные исследователи для детального понимания исторических и социокультурных процессов (история повседневности, микроистории, история ментальности и др.) стали широко использовать источники личного происхождения (эго-документы). Дневники, письма, автобиографии, записки, воспоминания, очерки как свидетельства о себе позволяют не только охарактеризовать сферу человеческих взаимоотношений и общественных ценностей, но и зафиксировать информацию о тех событиях, участниками или свидетелями которых были авторы. В полной мере это относится и к воспоминаниям участников польского восстания 1863–1864 гг., сосланных в Сибирь.
Первым, кто дал развернутую характеристику воспоминаний польских ссыльных, является исследователь Михал Яник. В работе «История поляков в Сибири» (1928) автор систематизировал воспоминания польских ссыльных о Сибири, начиная с XVII в. Ряд современных отечественных исследователей (Б. Шостакович, П. Казарян, А. Иванов, С. Муллина, А. Крих и др.) в рамках реконструкции истории ссылки и каторги в Сибирь также обращались к воспоминаниям поляков.
В нашей статье предпринята попытка анализа воспоминаний польских ссыльных, находившихся на территории Забайкалья в 60–70-е гг. XIX в. Это воспоминания Яна Сивинского «Каторжник, или воспоминания сибиряка, сосланного в 1863 году на 8 лет каторжных работ на Нерчинские рудники Забайкальского края в Сибири» (1905), Людвига Зелонко «Воспоминания о Сибири в 1863–1869 гг.» (1906), Леонарда Менжинского «Воспоминания о январском восстании и сибирской каторге» (1910), Бенедикта Дыбовского «Воспоминания доктора Бенедикта Дыбовского, начавшиеся от 1862 г. до 1878 г.» (1930), Эдварда Чапского «Воспоминания сибиряка» (1964).
Исследовательский интерес к этим работам обусловлен так называемым региональным фактором – именно здесь можно почерпнуть информацию об особенностях каторжных работ на территории Забайкалья. Объединяет также эти работы сословная принадлежность авторов: все они относятся к привилегированным слоям (Э. Чапский – граф, Б. Дыбовский – профессор, Я. Сивинский, Л. Зелонко, Л. Менжинский – шляхта). Необходимо учитывать и их позицию по отношению к польскому восстанию: большинство из них относятся к лагерю «белых».
Представленные работы по своему объему различны (от 127 до 600 страниц), имеют схожую структуру и включают в себя несколько основных частей: участие в восстании, заключение и суд; приговор и ссылка на каторжные работы; отбывание каторжных работ; выход на поселение.
Все работы написаны по прошествии большого временного отрезка (более четырех десятков лет), что естественным образом наложило отпечаток на их содержание. При этом авторы посчитали необходимым обосновать собственную мотивацию – написать о прошлом с позиции настоящего. Так, Ян Сивинский, работа которого была опубликована в 1905 г. отмечал: «…сорок лет я ждал, что кто-то из моих тогдашних товарищей, более способных, чем я, не выступит и не опубликует этих с каждой точки зрения интересных историй – но я напрасно ждал!» [Siwiński 1905: 5]. Леонард Менжинский утверждал, что воспоминания были предназначены исключительно для его потомков, которые, тем не менее, настояли на их публикации. Но также о публикации просили и его товарищи по ссылке: «Даже если бы в моих воспоминаниях, – говорили мне, – не было чего чрезвычайного, тем не менее могут находиться подробности, с которыми, возможно, другие не столкнулись и которые могут стать частью целого образа» [Mężyński 1910: 8]. Бенедикт Дыбовский отмечал, что написать воспоминания планировалось в соавторстве с «сердечным приятелем» Августом Кренцким, «дополняя друг друга письмами, памятью и коллекциями фотографий. Начало работы мы откладывали с года на год, пока неожиданная и внезапная смерть Августа сделала невозможным реализовать наш план [Pamiętnik dra… 1930: VII]. Стремление автора к объективности и непредвзятости подкреплено тем, что его «целью является представление прошлого как на фотографии, без ретуши, опираясь на факты» [Pamiętnik dra… 1930: VIII]. Это является свидетельством того, что авторы понимали, что их работы будут опубликованы и найдут своего благодарного читателя. То обстоятельство, что воспоминания были созданы через определенный временной интервал, позволяет говорить в пользу более взвешенной оценки минувших событий.
Текстологический анализ воспоминаний дает нам возможность сформировать объемное представление об условиях по пути следования ссыльных в арестантских партиях к месту отбывания каторги, о периоде отбывания каторжных работ, о пребывании на поселении.
Ян Сивинский, будучи жителем Галиции и подданным Австрии, не смог подтвердить свое благородное происхождение, поэтому следовал по этапу, как и большинство польских ссыльных, пешим порядком [Siwiński 1905: 26]. При этом он крайне критично отзывался о своих товарищах по этапу, принадлежавших к привилегированным сословиям: «Здесь я должен вспомнить о самой болезненной вещи, поскольку хочу вывести на дневной свет поведение закордонной шляхты в отношении нас… Мы же, политические преступники, не шляхта, также были закованы в кандалы, таким образом, ничем не отличаясь от уголовников… Кровь текла по нашим ногам... мы падали и теряли сознание, и тем не менее никто из господ коллег и товарищей нашего несчастья, тех, которые шли в собственных шубах и без кандалов как польская шляхта, не подставил нам плечо, не поднял из грязи, чтобы себя не испачкать, – и вдобавок ко всему отреклись от нас, перед москалями называя нас простонародьем» [Siwiński 1905: 31-32]. Объяснение такому поведению можно найти в воспоминаниях Э. Чапского, который отмечал, что «жандармы не позволяли мне ни приближаться, ни разговаривать с идущими партиями [ссыльных]» [Czapski 1964: 264].
В каждом из источников дается описание трудных условий передвижения и тяжелого положения польских ссыльных: постоянная боль от кандалов, отсутствие дополнительных средств для приобретения необходимых продуктов питания. При этом авторы воспоминаний единодушно утверждали, что польские ссыльные во время движения отказывались от милостыни («пода-ние никто из поляков не брал»), которую традиционно подавали жители городов и сел, расположенных на «кандальном» пути. Л. Менжинский, говоря об этапных помещениях, указывал на то, что «из-за болезней партии уменьшались наполовину». Довольно эмоционально Л. Зелонко охарактеризовал свое состояние: «Мы были так истощены от голода и потрепаны, что практически босые и голые прибыли в Иркутск, продавая по пути все, что можно было для утоления голода» [Zielonko 1906: 37].
Стоит учитывать, что в соответствии с установленными требованиями все следующие по этапу ссыльные обеспечивались необходимой одеждой и кормовыми деньгами, которые понятным образом не отвечали запросам польских ссыльных. И этим можно объяснить порой излишне эмоциональную, зачастую преувеличенную оценку трудностей передвижения, которую дают авторы воспоминаний.
Достаточно информативны воспоминания ссыльных о периоде отбывания каторжных работ. Здесь хотелось бы отметить, что в рассматриваемый период местные власти столкнулись с серьезной проблемой размещения ссыльных на территории Забайкалья и их распределения на каторжные работы. Эта проблема была обусловлена тем, что в конце 50-х гг. XIX в. значительная часть рудников была закрыта в связи с истощением запасов полезных ископаемых, что привело и к ликвидации ряда горных заводов. В связи с этим основными местами каторжных работ польских ссыльных на территории Забайкалья в 1860–1870-е гг. стали Петровский железоделательный завод, Александровский сереброплавильный завод, Сивяковское тюремное помещение. Незначительная часть ссыльных поляков была распределена на ремонтные дорожные работы в с. Беклемишевское, устройство курорта в деревне Дарасун, а также на Кличкинский рудник, Карийские золотые промыслы и в Муравьевскую гавань.
В Петровском железоделательном заводе находились Л. Зелонко и Э. Чапский, которые характеризовали свое пребывание следующим образом. Чапский писал: «Утром читали и учились, если не выпадала очередь чистить картофель или брюкву на кухне, после обеда выходили на прогулку подышать свежим воздухом, но нельзя было использовать никакой прогулки, как только идти бить железную руду. Любители приходили помогать тем товарищам, которые за мизерную плату целый день били молотом железную руду» [Czapski 1964: 277]. Зелонко указывал, что «поскольку в Петровске была значительная часть людей очень богатых, то на работы ходила незначительная часть», в основном «работали на разбивании руды или перевозке готовой продукции, за что получали ежедневно 20 копеек» [Zielonko 1906: 41]. Л. Менжинский отбывал каторжные работы в Кутомаре и на Александровском заводе, где освоил рабочие профессии, занялся изготовлением папирос, потом свечей и мыла, столярного клея, курительных трубок, пуговиц, портсигаров [Mężyński 1910: 75-76].
В середине 60-х гг. XIX в. в Сивяковском тюремном помещении было сосредоточено наибольшее число польских ссыльных, около 500 человек1. Здесь функционировала верфь для строительства лодок и барж для нужд амурских сплавов [Семенов 2017: 342-343]. На каторжных работах в Сивяково находились Б. Дыбовский и переведенные из Петровского завода Л. Зелонко и Э. Чапский.
Бенедикт Дыбовский все работы в Сивяковском помещении разделил на две категории: общественные и казенные. К общественным работам исследователь относил работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности сообщества ссыльных: доставку дров и воды, уборку помещений казарм, наблюдение за печами кухни, прачечной, бани, сбор мангира (дикого лука). К казенным работам были отнесены профессиональные занятия по строительству барж и лодок, а также работы по очистке берега от щепы и опилок [Pamiętnic dra... 1930: 88-89]. Сам ученый предпочитал выходить на работы по очистке берега, доставке строевого леса и сбор мангира. Автор писал о том, что постоянных каторжных работ не было: «На работы в это время не вызывали всех, только часть каторжных выходила по очереди, очередь эта была нерегулярная и наступала раз в несколько дней, а иногда и в неделю» [Pamiętnik dra… 1930: 90].
Э. Чапский, который некоторый период занимал должность старосты, подтверждал свидетельство Б. Дыбовского о том, что принудительных работ не было, однако «бедные нанимались для вытягивания бревен из Ингоды… Теперь не было казенных работ, но за очень низкую плату нанимали наших людей, умеющих работать топором… Те, кто нанимался на работы по сплаву, возили и рубили дрова, готовили, стирали белье, пекли хлеб, шили обувь, поправляли одежду» [Czapski 1964: 296].
Со временем увеличившееся число ссыльных привело к тому, что не представлялось возможным всех их разместить в предназначенных помещениях. В итоге было принято решение ссыльным, включенным в категорию «исправляющихся», разрешить проживать вне пределов тюрьмы и приобретать дома за тюремным ограждением. С середины апреля 1865 г. в течение двух месяцев было построено около 60 домов. Концентрация ссыльных в одном месте, особый уклад и складывающиеся внутренние взаимоотношения определили формирование отдельного сообщества, сложность и противоречивость которого нашли отражение и в его различных названиях: «Малая Варшава» [Zielonko 1906: 46], «Сивяковская марка» [Чапский 1964: 296], «Речь Посполитая Сивяковская» [Pamiętnik dra… 1930: 89].
Интересный факт приводил Б. Дыбовский: при посещении Сивяковского тюремного помещения генерал-губернатором Восточной Сибири М.С. Корсаковым на работы были выведены все польские ссыльные, невзирая на их социальное положение и материальное состояние [Pamiętnik dra… 1930: 92-93].
Ян Сивинский отбывал каторжные работы на Кличкинском руднике и Карийских золотых промыслах. Автор подтверждал, что польские ссыльные не привлекались к тяжелым каторжным работам на руднике, «но для нас придумали другие работы; мы все, кто были в Кличке, старые и молодые, мололи на жерновах… должны были смолоть по два пуда зерна!» [Siwiński 1905: 89].
Анализ воспоминаний позволяет говорить о том, что сложившееся в отечественной и польской исторической памяти устойчивое представление о тяжелых каторжных работах, которые отбывали польские ссыльные на территории Забайкалья, не соответствовало реальному положению вещей. Это также верифицируется и архивными документами1.
Воспоминания дают достаточную информацию о пребывании польских ссыльных на поселении, переход куда был возможен после освобождения от каторжных работ. Основанием для перевода на поселение являлись императорские манифесты, значительно облегчавшие участь польских ссыльных. Первый манифест, снижавший сроки каторжных работ, был подписан в апреле 1866 г. Впоследствии были подписаны манифесты в мае 1868 г., в мае 1873 г., а с 1883 г. введена амнистия, освобождавшая ссыльных участников польского восстания.
Размещение в местах поселения регулировалось местным нормативным актом «Правила по устройству быта польских ссыльных, сосланных в Восточную Сибирь из Царства Польского и западных губерний»2 (1866), согласно которому по истечении срока каторжных работ ссыльных следовало направлять на поселение в Иркутскую губернию. Документ определял округа и волости, в которых следовало размещать ссыльных поляков.
Так, Менжинский был распределен на поселение в Идинскую волость Балаганского округа и проживал на Кулаковском участке, относящемся к селению Верхнебуретское [Mężyński 1910: 100]. Как и большинство ссыльных, он столкнулся с большим числом проблем, о чем эмоционально вспоминал: «Положение мое было отчаянное, я как молодой человек, не умеющий ничего, плохо понимающий по-русски, без денежных средств, не видящий ни перед собой, ни за собой солдата с карабином моментально оказался выброшенным на вечное поселение в такую пустошь, где даже если бы я захотел чему-то научиться, чтобы работать, не было у кого» [Mężyński 1910: 101-102]. Говоря о группе польских ссыльных, которые вместе проживали в Олонках, Менжинский подчеркивал, что «поскольку были вместе, им было намного легче, чем мне, – в конце концов в большой деревне всегда могли что-то заработать» [Mężyński 1910: 108].
В небольших селениях практически не было работы для новых поселенцев, но даже если и выпадал случай заработать, зачастую незнакомые с крестьянским трудом поселенцы не справлялись с порученными заданиями. Один из таких случаев описывал Менжинский, который с другими поселенцами нанялся сжать две десятины ржи для одного из крестьян. Сам автор отмечал, что «в конце концов через три недели с большим трудом мы закончили, зарекаясь раз и навсегда такой работы» [Mężyński 1910: 108]. Тем не менее, когда один из местных крестьян предложил ему работу на хороших условиях, с обеспечением питания, проживания и одежды, сроком на год, ссыльный отказался, ожидая очередного манифеста [Mężyński 1910: 114-115].
Большинство польских ссыльных, как правило, не задерживались в распределенных местах и получали увольнительные билеты для приискания заработка в крупных городах. Так, Э. Чапский получил билет на право проживания в Иркутске, и поскольку имел достаточно финансовых средств, мог себе позволить не работать и вести жизнь аристократа. Наблюдая за жизнью сообщества польских ссыльных в Иркутске, автор отмечал, что наибольший заработок имели доктора, многие из ссыльных основали мастерские или небольшие магазины. В то же время Э. Чапский указывал, что «кампании, заложенные ремесленниками и торговцами, редко когда существовали более пары лет, поскольку поляки не имеют достоинств, необходимых для таких товариществ» [Czapski 1964: 310].
Л. Зелонко был распределен на проживание в деревню Олонки Идинской волости, где на тот момент, по свидетельству ссыльного, находилось 90 его товарищей [Zielonko 1906: 184]. Одной из главных проблем, с которой столкнулись польские ссыльные, было отсутствие постоянного заработка. «Более всего было таких, которые, дома избалованные и заласканные родителями, не были приспособлены к практической жизни, ремесла, не скажу, что не хотели, но просто не могли освоить, и им не хватало на это энергии и сильной воли» [Zielonko 1906: 185].
Исключение составляет распределение Б. Дыбовского, который был направлен для поселения в Култук, где продолжил заниматься исследовательской работой [Pamiętnik dra… 1930: 287]. В период пребывания на поселении ученый не только проводил исследования на Байкале, но также выезжал в Хамар-Дабан, а в 1872 г. осуществил научную экспедицию на Дальний Восток. Еще один автор анализируемых воспоминаний Я. Сивинский, будучи австрийским подданным, на основании манифеста 1868 г. получил право возвратиться на родину.
Воспоминания дают общее представление об условиях жизни поляков на поселении, которые зависели от их социального положения. Лица, относившиеся к привилегированным сословиям и получавшие средства от родных, могли позволить себе не работать и вести привычный образ жизни. Те, кто владели практическими навыками, имели инициативу и желание, могли найти достойный заработок и в сибирских условиях, что подтверждали многие современники [Pamiętnik dra… 1930: 287; «В дали»… 1883: 4-5].
В целом, анализ выбранных воспоминаний позволил нам расширить представление об условиях отбывания каторжных работ польскими ссыльными на территории Забайкалья и о специфике их проживания на поселении в 1860–1870-е гг. Следует отметить, что воспоминания, несмотря на то что являются одним из субъективных источников, безусловно, передают читателю и дух эпохи, и характер времени. Однако излишняя политизированность, обусловленная статусом ссыльных, этническая ментальность, индивидуальные особенности авторов нашли отражение в их текстах. На наш взгляд, следует выделить воспоминания Б. Дыбовского как наиболее объективную и самую объемную работу, в которой он сумел показать реальное положение дел, без преувеличения мук и страданий ссыльных поляков как на каторге, так и на поселении.
В качестве перспективных исследовательских задач необходима дальнейшая работа по введению в научный оборот воспоминаний других авторов, которые в совокупности с различными источниками позволят воссоздать полноценную картину событий истории ссылки и каторги в Сибири. Особенно это важно для переосмысления сложившихся мифов и представлений о Сибири как месте мартирологии поляков в целях гармонизации современных российско-польских взаимоотношений.
Список литературы Воспоминания польских политических ссыльных как источник по истории ссылки в Забайкалье в 1860-1870-е годы
- "В дали" (из прошлого). Рассказы из вольной и невольной жизни Мишла (М.И. Орфанова) (предисл. С.В. Максимова). 1883. М.: Типо-литография И.Н. Кушнерева и К°. 420 с.
- Семенов Е.В. 2017. Каторжные работы польских ссыльных в Сивяковском тюремном помещении в 60-е гг. XIX в. - Сибирская ссылка: сборник научных статей. Вып. 8(20). Иркутск: Оттиск. С. 340-348.
- Czapski E. 1964. Pamiętniki Sybiraka. Londyn. 371 s.
- Janik M. 1928. Dzieje Polaków na Syberyi. - Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej. - 472 s.
- Mężyński L. 1910. Wspomnienia z powstania styczniowego i sybirskiej katorgi 1863-1869. Tarnopol. 164 s.
- Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878. 1930. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 627 s.
- Siwiński J. 1905. Katorżnik czyli pamiętniki Sybiraka napisane przez Jana Siwińskiego zesłanego w roku 1863 na osm lat do robót katorżnych w kopalniach Nerczyńskich, kraju Zabajkalskiego w Syberii. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie. 128 s.
- Zielonko Jastrzębiec L.1906. Wspomnienia z Syberyi od roku 1863-1869. - Kraków: Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie. 320 s.