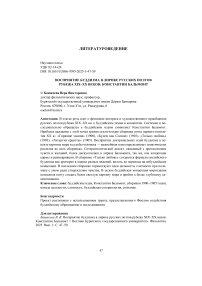Восприятие буддизма в лирике русских поэтов рубежа XIX–XX веков: Константин Бальмонт
Автор: Башкеева В.В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет о феномене интереса и художественного приобщения русских поэтов рубежа XIX–XX вв. к буддийским темам и концептам. Системно и последовательно обращался к буддийским идеям символист Константин Бальмонт. Наиболее важными с этой точки зрения стали четыре сборника поэта первого пятилетия ХХ в.: «Горящие здания» (1900), «Будем как Солнце» (1903), «Только любовь» (1903), «Литургия красоты» (1905). Восприятие доктринальных идей буддизма в аспекте картины мира и судьбы человека — важнейшая тема определенных тематических разделов во всех сборниках. Сотериологический аспект, связанный с преодолением чувств и желаний, более дискуссионен в лирике Бальмонта, так же, как концепции кармы и реинкарнации. В сборнике «Только любовь» создаются формулы индийского буддизма как критерия в оценке разных явлений, вплоть до переноса на небуддийские концепции. В последнем сборнике торжествуют идеи цельности, слитности при полемике с умом ради утверждения чувства. В целом буддийская концепция мироздания позволила поэту создать более светлую картину мира и прийти к более глубокому самопознанию.
Буддийские идеи, Константин Бальмонт, сборники 1900–1905 годов, начала цельности, слитности, буддийская сотериология, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/148332123
IDR: 148332123 | УДК: 82-14+24 | DOI: 10.18101/2686-7095-2025-3-47-59
Текст научной статьи Восприятие буддизма в лирике русских поэтов рубежа XIX–XX веков: Константин Бальмонт
Общеизвестным является факт интереса поэтов рубежа XIX–XX вв. к теме Востока. Особую нишу составляет здесь конфессиональная тема, в частности тема буддизма, которая сопрягается с экзотикой открытия стран Востока — Индии, Китая, Японии. В лирику Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) в связи с его широкой сферой культурных интересов тема буддизма также вошла. Предполагается, что, по Г. Бонгард-Левину, «с письменными памятниками индийской культуры Бальмонт, вероятно, впервые познакомился в 1897 г., когда он читал лекции по русской литературе в Оксфорде. В архиве Оксфордского университета сохранились списки ученых, которые посещали лекции русского поэта, и среди них был» известный санскритолог, индолог, организатор серии «Священные книги Востока» Макс Мюллер (1823–1900) [цит. по: 4]. К буддийским мотивам в творчестве Бальмонта обращался ряд исследователей, которые правомерно поставили вопросы о наиболее известных «восточных» произведениях поэта [4; 8; 12]. Наша задача, которая решается впервые, — рассмотреть наиболее важные сборники зрелого поэта в их особенностях и эволюции с точки зрения буддийской темы.
Результаты
Следует отметить, что к концу 90-х гг. XIX в. Бальмонт, уже издавший три сборника, испытывал потребность в новых мировоззренческих основаниях, в частности для того, чтобы преодолеть идеи скепсиса, разочарования, депрессии, в целом свойственные поэтам рубежа веков и в особенности характерные для эмоционального, импульсивного Бальмонта с привычным для него тогда сумеречным состоянием души.
Очевидно, вдохновленный новыми идеологемами поэт восторженно пишет поэтессе Л. Вилькиной: «Мне жить, жить, вечно жить хочется… Издаю новую книгу, совсем не похожую на прежние. Она удивит многих. Я изменил свое понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. На многие годы. Быть может навсегда». В предисловии «Из записной книжки» (1899) к новому сборнику он признается, что достиг «внутреннего освобождения» [2, с. 570].
В трех центральных сборниках зрелого поэта «Горящие здания» (1900), «Будем как Солнце» (1903), «Только любовь» (1903), принесших ему не только творческое удовлетворение, но и феноменальную известность, а также в сборнике «Литургия красоты» (1905) ощутимо увлечение странами Востока и их религиями, прежде всего религиями Индии. Следует сразу отметить, что провести четкие границы в лирике поэта между порождающей или близкой по догматике религией — индуизмом и буддизмом в Индии, даосизмом и буддизмом в Китае — непросто. Так, индийская тема, ярко реализованная в сборнике «Горящие здания», раскрывается как на индуистском ведическом материале, так и на буддийском, почти что в их слитности. Так и более редкая китайская тема раскрывается как на даосском, так и на буддийском материале. Интерес к национально-этническому воплощается, таким образом, в поэтическом изучении религиозного.
Следует отметить, что стихи с буддийскими аллюзиями строго коррелируют у поэта с мотивно-тематическим принципом, который он проводит через все сборники. Бальмонт выделяет определенные разделы, которые и насыщает восточной темой, в том или ином культурном виде.
Какие идеи, давшие о себе знать в «восточных» стихах поэта, оказали заметное влияние на творчество Бальмонта? В сборнике «Горящие здания» это концепция мира и человека, которые нужны поэту с сотериологической точки зрения, в том числе с точки зрения более глубокого и спасительного самопознания.
Во-первых, это стремление воспринять мир в его связности и приятии, а не рассмотрении его как тюрьмы, как неволи, арены вечной борьбы добра и зла. Не случайно он пишет: «Мир должен быть оправдан весь, / Чтоб можно было жить!» («В душах есть все», ч. 3, раздел «Страна неволи». Далее отсылки в круглых скобках к изданию 1994 г. будут даны вариативно: с указанием названия стихотворения, раздела сборника) [3, с. 267]. И удивленно констатирует: «Мой друг, есть радость и любовь» («Мой друг, есть радость и любовь», раздел «Антифоны»). Земной мир едва ли не отождествляется с Эдемом, с Джаннатом в исламе. Бальмонт поэтически разворачивает идею из Корана «Я обещаю вам сады»: «Я призываю вас в страну, / Где нет печали, ни заката» («Оттуда», раздел «Антифоны»). Иногда это обретает форму этического нигилизма, но для нас важна констатация стремления поэта к единому началу, пусть и с субъективистским поэтическим перехлестом: «От неба иль от фурий, — / Не все ли нам равно!» («Нам нравятся поэты», раздел «Антифоны»).
Появляется философическое, непоэтическое слово «бытие», которое даже не вполне вписывается в контекст легендарной темы о гипербореях: «Не бессмертны они, эти люди, меж нами — другие, / Но помногу веков предаются они бытию» («Гипербореи», раздел «Антифоны»). Понятие «бытие» и онтологично, и целостно. Поэт может открыть это бытие как «сверхземную красоту» каждой душе, и люди откликнутся — не борьба или вражда, а поиски единства: «Мы ответим как Море на ласки луны, / А не вражеским криком врагу» («Избраннику», раздел «Антифоны»).
Еще раз в сборнике «Горящие здания» в разделе «Прогалины» в цикле «И да, и нет» прозвучит мысль о бытии: «И да, и нет — здесь все мое, / Приемлю боль — как благостыню, / Благословляю бытие, / И если создал я пустыню, / Ее величие — мое!».
Цикл «И да, и нет» — это системный взгляд Бальмонта на буддийско-индуистскую проблематику. Помимо идеи бытия как единого начала, в каком-то смысле аналога Просветленности, Абсолюта, это обсуждение закона кармы в результате действия реинкарнации1. Поэт рефлексирует над идеей возможного перерождения человека в иные формы жизни. И хотя он не в восторге от человека, возможные — в свете закона кармы — перерождения в другие формы жизни вызывают у него страстное желание возвысить человеческую форму жизни: «Среди живых — лишь люди не уроды, / Лишь человек хоть частию красив” («И да, и нет», ч. 2). «Страшны мне звери, и черви, и птицы, / Душу томит мне животный их сон» (ч. 3). К числу возвышающих человека особенностей он относит наличие сознания, что делает человека непобедимым, способность к «живому слову» и даже наличие «бездн мучительных». Резюмирует: «И человеческой мысли узоры, / И человека родные черты» (ч. 3).
В данном цикле утверждается идея четырех натурфилософских стихий. Думается, что в контексте общей проблематики цикла можно относить их именно к индийскому региону, а не к европейскому античному или средневековому периоду. Поэта привлекает мир, в котором субъекты, имеющие сознание — демоны (злое начало), гении (идеальное начало), люди (обычное начало), создадут «неизреченное чудо», т. е. надо понимать, достигнут высокого уровня. Именно тогда «уразумеют себя впервые» «четыре полновластные стихии: «Земля, Огонь, и Воздух, и Вода» (ч. 4)1.
Концепция четырех стихий как одна из основ нового миропонимания Бальмонта найдет далее развитие в сборнике «Будем как Солнце», в котором первый раздел называется «Четверогласие стихий». Дается разветвленное воплощение стихий: стихия воды (море, влага, океан, льдины, дождь, снежинки), воздуха (солнце, луна, ветер, безветрие), огня, земли (вербы, цветок). И хотя семантические акценты и иерархия понятий «Солнце», «Море», «Луна», акцентированные самим поэтом, отличаются от натурфилософских начал Востока, важно, что через их выделение поэт обращается к конкретике бытийного природно-предметного, онтологически заявленного и одновременно символизированного мира2.
Идея будущего мира в цикле «И да, и нет», будучи центральной (части 5–8), не имеет тем не менее строго христианских, или буддийских, или иных очертаний, но вот в части 9 возникает идея просветленной личности:
Я — просветленный, я кажусь собой,
Но я не то, — я остров голубой:
Вблизи зеленый, полный мглы и бури, Он издали являет цвет лазури.
Я — вольный сон, я всюду и нигде: —
Вода блестит, но разве луч в воде?
Нет, здесь светя, я где-то там блистаю, И там не жду, блесну — и пропадаю.
Я вижу все, везде встает мой лик, Со всеми я сливаюсь каждый миг. Но ветер как замкнуть в пределах зданья?
Я дух, я мать, я страж миросозданья 1 [2, с. 318–319].
Идея просветленности как специфически буддийский концепт привлечет внимание и через сто лет после Бальмонта — в романах В. Пелевина. В жанре так называемой «китайской сказки» прослеживается у писателя «духовное путешествие к просветлению для автора, рассказчика, главного героя и читателей» [13, с. 85]. Констатация просветленности у Бальмонта несет все же сомнение — «кажусь собой», в просветленности есть двоение — то голубой, то зеленый. Образы вольного сна и ветра убедительнее, в них единство в целостности и разные лики этой целостности показаны в слиянии, в слитости.
Другая оказавшаяся влиятельной для Бальмонта мысль буддизма — об отсутствии страдания, особенно с учетом трагического, эгоцентрического мироощущения поэтов рубежа веков. Поэт признает, что страдание рождено чувствами, а значит, и желаниями2. Чтобы понять страдание в мире человека, Бальмонт раньше всего ищет отсутствие страдания в мире вокруг героя, в мире природы. Неожиданно открытая красота мира — в обычном ландшафте, цветах, насекомых, звуке и цвете — позволяет ему удивиться: «…разве есть страданья? /Разве есть печали?» («Глушь», раздел «Мимолетное»).
Имеет место пересмотр понятия чувства, отход от вечной дилеммы русской литературы, разрывающейся между «умом» и «сердцем», этой двоичной концепцией европейских просветителей. С одной стороны, по-прежнему «Я насмерть поражен своим сознаньем, / Я ранен в сердце разумом моим», с другой — удивительное «И понимая всю обманность чувства, / Игру теней, рожденных в мире мной» («Раненый», раздел «Страна неволи»).
Он учится не привязываться, когда пишет, что герой будет читать страницы прошлого «как дух, не скорбя, не любя», что сердце его не будет страдать, когда не удастся слиться с тайнами столь привлекательной для романтика ночи — «…сердце забудет, что с ними слияния нет» («Затон», цикл «Мимолетное»). Он желает своему герою: «Бледный воздух прохладен. /Не желай. Не скорби» («Бледный воздух», раздел «Безветрие»).
Более того, поэт констатирует: «Пять чувств — дорога лжи» и возвышает «сверхчувственность»: «Нам правда каждый раз — сверхчувственно дана, / Когда мы вступим в луч священного экстаза» («Путь правды», раздел «Прогалины»). Состояние экстаза, слóва, привычного для лексики Серебряного века, пробуждает сверхчувственность, те тайные силы, которые живут в душе каждого и способны к возрождению. Заметим, здесь не христианская идея воскресения, а мысль о новом рождении в результате прохождения круга сансары с ее извечной кармой.
За разделом «Прогалины» следует раздел «Индийские травы», обычно выделяемый исследователями, но отнюдь не единственный для раскрытия буддийской темы. Интересно проанализировали его исследователи Е. В. Фисковец, Е. В. Кон-цова. Последний автор приходит к выводу, что поэт, переосмысливая восточные темы, «предлагает поэтический вариант символистской модели “художник — творчество — искусство”, реализующейся в сквозных для всего цикла мотивах и образах» [6]. С точки зрения нашей темы выделим несколько моментов. Это несколько раз представленная концепция мира («Индийский мотив», «Как паук», «Молитва вечерняя»), в понимании которой акцентированы идеи брахманизма, идея иллюзорности жизни («Жизнь»), реинкарнации («Смерть на мгновенье, и вновь колыбель» — «Майя»), круга сансары («Круговорот»), пути к просветлению («Индийский мудрец»). Последнее стихотворение представляет интерес с точки зрения буддийской сотериологии. В «Индийском мудреце» Бальмонт использует важный для буддизма образ существа с закрытыми ушами, глазами, ртом, восходящий, очевидно, к «Бхагавадгите» и древней тамильской литературе [дискуссия]. «Так я, как бы глухой, слепой и онемевший, / Иду, не поднимая головы». Эти три состояния символизируют высокую степень углубления человека в мир истинного знания, человек не отвлекается на пустую информацию, ненужные виды, пустую речь. И в этом состоянии медитации герой проходит через этапы постижения высшей истины: углубление в область знания, преодоление невежества; усовершенствование духа через приведение его к изначальной простоте; культура молчания и, наконец, приобщение к «бессмертной красоте».
Идея человека, отрешившегося от желаний, наиболее системно воплощена у Бальмонта в следующем после «Индийских трав» разделе «Безветрие» в стихотворении «Светлый герой»: «Я слышал о светлом Герое, / Свободном от всяких желаний». По сути, можно говорить о попытке воплотить с точки зрения деятеля русской культуры образ Будды. Имя Будды не названо, осторожно выбрано определение «светлый герой», которое привязано, как и многое у Бальмонта, к идентификации героя как поэта. Традиционные образы античной или общеромантической культуры присутствуют и здесь («поток» — очевидно, река Стикс, концепт судьбы), но идея отрешенности от желаний, лучистого покоя («в лучистом застыл он покое»), переход в состояние нирваны («К нему не притронутся бури, / Его не коснутся печали, / Ему не знакома борьба», «в душе отразив небосвод») здесь господствуют.
И если Бальмонт сомневается, что естественно, в истинности идей буддизма и в трудности их полного приятия, то в любом случае он в данном сборнике стремится отказаться от старых ценностей: «Жить, умирать и любить, / Беспредельную ценность дробить», опробует новое понимание смерти, преодоление ее: «В смерти нам радость дана, — / Красота, тишина, глубина» («Потухшие факелы», раздел «Безветрие»).
В сборнике «Будем как солнце», в котором существенно меньше буддийских аллюзий, интересен предпоследний раздел «Сознание», в котором Бальмонт стремится через концепт сознания дать широкую картину личной культурологии, своей культурной базы, в которой выделяются разные локации и разные личности. Так, он вновь будет констатировать идею «четверичности миров»: «И пламя, воздух и вода / С землею слиты навсегда» [2, с. 480], пояснит, за что полюбил культуру Индии — за идею избывания страдания: «Я полюбил индийцев потому, / Что в их словах бесчисленные зданья, / Они растут из яркого страданья, / Пронзая глубь веков, меняя тьму» («Когда я думаю, любил ли кто кого» [2, с. 490]. «Обман влечений и страстей» будет теперь отличительной чертой сверхчеловека, того, кто «проникнет в Океан». Ницшеанские идеи связываются с буддийскими идеями. В целом же поэт повторяет в концентрированном виде открытия предыдущего сборника.
Новым и смелым в данном разделе является обращение к китайской традиционной культуре, которая восхищает его своей непохожестью на привычные культурные образы, и к даосско-буддийскому концепту «Великое Ничто». Считается, что Великое Ничто это и есть пустота, шуньята, имеющие принципиальное значение для буддизма. Исследователи отмечают, что «Великое Ничто, Великая пустота, шунья — последняя основа буддийского ученья и первоначало всех его построений» [9]; «название стихотворения происходит от философского понятия «тайсюй» — «Великая пустота», «Беспредельность», «Абсолютная пустота», что восходит к учению о Дао [10].
Как понимает Бальмонт слова даосского мудреца Чванг-Санга (Чжуан-Цзы), пересказ речи которого представляет поэт во второй части стихотворения? Его пугает бесчувственность Великого Ничто, он дважды говорит об этом: «Бесчувственно Великое Ничто». Понимание жизни как процесса постоянных перемен рождений и смертей, ожидание нового смертного порога («За тьмою — жизнь, за холодом — апрель, / И снова темный холод ожиданья») также пугает. Поэт пытается понять идею отсутствия личности, личностного начала, того, без чего немыслима западная культура: «Я тихо сплю — я тот же и никто, / Моя душа — воздушность фимиама». Такой поворот темы интеллектуально напрягает его, но чувственно скорее приемлется. Способом приятия становится использование излюбленных у символистов образов дыма, фимиама, эфира.
В третьем сборнике периода расцвета в творчестве Бальмонта «Только любовь» (1903) заметны изменения в адаптации буддийской темы. В целом исчезает идея личной сотериологии, а философские идеи буддизма-индуизма, уже ранее утвержденные, теперь выступают несколько по-иному. Что касается концепции спасения через изменение желаний и чувств, Бальмонт возвращается к привычной символистской модели апологии чувства.
Заняв позицию поэта — певца мимолетности, он заявляет: «Я не знаю мудрости, годной для других» («Я не знаю мудрости»). И в этом его полемичность. Или возвращается к привычной модели героя-индивидуалиста, сосредоточенного на себе. Так, в стихотворении «Отдать себя» раздумья героя, по сути своей имеющие несимволистский характер, приводят к утверждению гордыни человека модерна. Герой хочет «благословить свою печаль, / благословить свое отчаянье», «быть равным с низкими, неравными» — и можно предположить, что герой стремится к просветлению, но нет — как итог его влекут власть и возвышение над людьми.
С другой стороны, крепко застолбленные буддийско-индуистские идеи становятся критерием оценивания мира. Это идея высокого статуса Индии как страны ума и красоты: «в душах светлооких/ сложился блеск ума и красоты» («О, как, должно быть, было это Утро», цикл «Гимн Солнцу»). И даже священный ужас перед картиной мира, созданной в религиях Индии: «Индийский ум, кошмарно-исполинский, / Свод радуги, богатство всех тонов» («Похвала уму»). Причем ум этот связан именно с религиозными учениями.
Особенно ясно преклонение перед умом в форме сознания будет показано в стихотворении «Сознанье, Сила и Основа» в разделе «Мировое кольцо». Поэт выдвигает три важнейших начала: «Сознанье, Сила и Основа, / Три ипостаси Одного». Под одним поэт понимает Слово, власть слова. Интересны понятия «Сознанье» и «Основа». Что понимать под Сознаньем? Отсылка к индийской культуре, особенно с учетом актуализации идеи сознания в предыдущих сборниках, очевидна: «Высоты горные Сознанья — / Как Гималайские хребты». Понимание как постижение законов бытия («праздник пониманья»), возможность вновь создать красоту («зачатья новой красоты») также отсылают к изучаемым идеям. Понятие «Основа» раскрывается как «неисчерпаемый рудник», из которого рождается все живое, причем возрождающееся живое («Столетье отжил я, и снова / Встречаю детски майский миг». Не исключены концепты пустоты и реинкарнации, так как в противном случае это будет просто тривиальная тема обновления души, возвращения ее молодости.
Бальмонт распространяет найденные критерии на христианские понятия. В разделе «Проклятия» в стихотворениях «Далеким близким», «О, да, молитвенно душа» он противопоставляет дуализму христианства с его Христом и Антихристом, Дьяволом и Богом свою позицию. Лишь «безраздельная цельность» героя, ушедшего от ложности религиозно-культурных дихотомий, позволяет познать бы- тие как истинность, «дойти до бытия». Молитва его души «Я только цельному молюсь» обыграна в символистском духе, для него главное проявиться в своей цельности, а не скрываться, ибо последнее есть ложь.
Облик Христа даже начинает мерцать у Бальмонта ликами Будды, наделяется теми чертами, которые ассоциируются именно с буддийскими просветленными существами. В стихотворении «Один из итогов» о Христе сказано: «… который не страдает, / Страдая вольно за других», «Всечуткий, многоликий, цельный — / Встречает с ясностью лица…».
В следующем сборнике «Литургия красоты: Стихийные гимны» (1905) в первом разделе «Праздник сердца» поэт стремится объединить, как это уже было у него, знакомые ему культурные образы в некое единое мировое целое, создать «праздник сердца». В стихотворении «Три страны» Индия вновь выделена как страна актуальной современности и носительница света.
Мир опутать светлой тканью мыслей-паутин,
Слить душой жужжанье мошки с грохотом лавин, В лабиринтах быть как дома, все понять, принять, — Свет мой, Индия, святыня, девственная мать [3, с. 673].
Индия позволяет уставшему духу поэта найти успокоительную, «родную», идею: «прекрасна только слитность разных ты и я ». В разделе «Огонь» также акцентирует любовь к Индии, «отчизне святой», «цельной, навек непреложной» («Я закрываю глаза, и в мечтании»), «Мое индийское мышление богато / разнообразием рассвета и заката», «Под Гималаями, чьи выси — в блесках Рая» («Огнепоклонником я прежде был когда-то»).
Усиливается признание индийских индуистских (брахманистских) божеств, в частности «светлого Агни» и умного Брамы. Надо при этом помнить, что пантеон индуистских и буддийских божеств весьма тесно переплетен. Так, «Агни появляется во многих буддийских канонических текстах как бог, а также как олицетворение сердца или огня»1. «Агни занимает видное место в искусстве традиции Махаяны. В Тибете он является представителем пятидесяти одного буддийского божества, найденного в мандале Будды медицины» [14].
Одновременно с этим Бальмонт спорит с когда-то открытыми истинами, которые в настоящий момент, обретя силу шаблона, опровергаются им. Хотя Брама олицетворяет для Бальмонта идею ума: «Я знаю, что Брама умнее, чем все беско-нечно-имянные боги» («Самоутверждение»), поэт противопоставляет восточному пониманию ума, как будто это привычный просвещенческий ум в стратегиях русской культуры, значимость сердца, эмоций, красок. Он пытается отвергнуть утверждение «ум есть мерило», спорит с тем, что явления материального мира следует рассматривать в цепочке с иными ценностями бытия: «Не странно ли было б цветку объявить, что он только средство к чему-то».
Полемика выходит на новый уровень в стихотворении «Вино минут», когда поэт опровергает доктрины буддизма-индуизма, христианства, которым был привержен ранее. Не согласен он с заветом Готамы «Охраняй врата всех чувств», Брамы «Умертви себя — ты внидешь в царство Брамы», искаженным «голосом» Христа — «Бойся жизни». Вместо «закрытых ворот» чувств он утверждает желанность боли, вместе с которой приходят красота, искусство, радость, превозносит идею пьянящего мгновения — «будем пить вино минут».
Понятие «ум» связывается с излюбленным концептом «сознание». Стихотворение «Быть утром» манифестирует важные буддийские идеи: избавление от страданий («Кто не хочет повторений, и бесцельностей печали»), вызванных самим процессом жизни; активности человека («должен сам себе помочь»); связь субъекта и мира («Мир — бездонность, ты — бездонность, в этом свойстве вы едины»); идея совершенного существа, до уровня которого может подняться любой человек
О, глубоко видит око! О, высоко ходят тучи!
Выше туч и глубже взоров свет сознания могучий» [3, с. 684].
Тот, кто взрастит в себе могучий «свет сознания», будет сильным, отождествится с утром как с временем высших и лучших достижений. Ощутимо, что Бальмонт хочет открыть этот путь для своих современников, и в этом видится благородная учительная миссия поэта.
Преодолеть магию ума для поэта оказывается, наверное, невозможно, и он наделяет его атрибутом света. «И ты глядишь светло, / Лелея свет умом» («Темному брату»). И «темный брат» может пойти по пути света, по пути духовного совершенствования: «Ты создал сам свой лик, / Все можно изменить». Речь о просветленном сознании: «Он — ослепительный Свет» в стихотворении «Мудрецы говорят» (раздел «Черная оправа»):
Нет в Нем скорби, ни жизни, ни смерти,
Ни снов, ни движенья,
Но, скорбя со скорбящим, с живущим живет Он Как брат [3, с. 717].
Перед этим великим нечто человеку стоит хранить молчанье и одновременно понимать, что с ним постоянно «беседует Кто-то», постоянно давая возможность исцелить «глубокие алые раны».
Особое место в разделе «Праздник сердца» занимает стихотворение «Йони-Лингам», которое вводит в русскую поэзию новые образы и новые понятия. Понятия «йони» и «лингам» активны в тантрическом буддизме Ваджраяны, который
Бальмонт представляет прежде всего через образ «далекого Тибета». Йони в тан-тризме1 «олицетворяет изначальную природу абсолюта, запредельную пустоту и безграничное пространство, вмещающее в себя все феномены». Лингам «же символизирует аспект формы, непреложную истину и присутствие абсолюта во всех феноменах этого мира <…>. Он воплощает принцип осознанности, сияния само-постижения, проявляющего себя в потоке форм» [7]. В связке друг с другом это «соединение символизирует достижение состояния недвойственности субъекта и объекта, сансары и нирваны» [5].
Бальмонт достаточно глубоко понял идею йони-лингама, не только как пьянящий его природный жест зверей, богов и людей, но и как космическое явление философского порядка:
Вы дарите гирлянды векам,
И родятся созвездья, сверкая,
Жизнь — все та же, и вечно — другая, Нераздельны в ней Йони-Лингам [3, с. 677].
Бальмонт не все приемлет в буддизме. Принимая доктринальные идеи буддизма-индуизма или же полемизируя с отдельными из них, он критично отнесся к культу перерожденцев в ламаизме. Используя христианское понятие Беса, ассоциируемого поэтом с глупостью человеческого рода, опускающегося на уровень животных, Бальмонт сравнивает его с тибетским ламой: «Глупый Бес — как Лама, / Что правит душами в Тибете: / Один умрет — другой, для срама, / Всегда в запасе есть на свете». Столь злое, даже злобное сравнение не может не удивлять.
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что буддизм оказал заметное влияние на К. Бальмонта, и мировоззренческое, и художественное. Более того, можно говорить о его длительном творческом воздействии, в промежутке 1899–1905 гг. На начальном этапе увлечения буддизмом в сплаве его с другими страновыми религиями, прежде всего индийскими, К. Бальмонта интересуют как вопросы онтологические — концепции построения и осмысления мира, так и вопросы личного совершенствования, избывания страдания в психологическом плане. Буддийская концепция мироздания позволила поэту создать более светлую картину мира и выйти на более высокий художественный уровень.
В дальнейшем лики восприятия буддизма меняются. Сотериология практически уходит, ведь отсутствие чувств-желаний, по сути, неприемлемо для поэта, так как в этом случае исчезает базис для творчества. Зато другие аспекты оказываются сильны. Буддизм воспринимается Бальмонтом как выражение и манифестация высокого ума, поднимающегося до концепта «сознание». Идеи приятия мира, его единства, слиянности противоположных начал также будут влиятельны в восточных стихах Бальмонта. Одновременное сосуществование разных векторов отношения к буддизму свидетельствует о символистской включенности в момент.