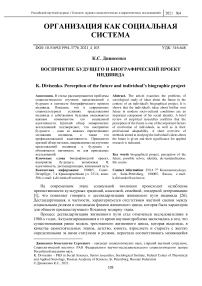Восприятие будущего и биографический проект индивида
Автор: Дивисенко Константин Сергеевич
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Организация как социальная система
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы социологического изучения представлений о будущем в контексте биографического проекта индивида. Показано, что в современных социокультурных условиях представления индивида о собственном будущем оказываются важным компонентом его социальной идентичности. Краткий обзор эмпирических исследований подтверждает, что восприятие будущего - одна из важных определяющих мотивации индивида, а также его профессиональной адаптивности. Приводится краткий обзор методик, направленных на изучение представлений индивида о будущем и обозначается значимость их для прикладных исследований.
Биографический проект, восприятие будущего, возможные я, идентичность, дестандартизация, жизненный путь
Короткий адрес: https://sciup.org/142231854
IDR: 142231854 | УДК: 316.648 | DOI: 10.51692/1994-3776_2021_4_103
Текст научной статьи Восприятие будущего и биографический проект индивида
На современном этапе социальной эволюции происходит ослабление преемственности культурных традиций, классовой, семейной, гендерной детерминации [1], что позволяет говорить о дестандартизации жизненного пути индивида [26]. Дестандартизация, в частности, характеризуется отсутствием жесткой сцепки между социальными ролями и основными фазами жизненного цикла, которая была характерна для обществ предшествующего Позднему модерну этапа.
Процесс дестандартизации жизненного пути стал отмечаться исследователями в 1980-х годах. Актуализировавшаяся в то время научная проблема заключалась в том, что существовавшая ранее модель трехэтапного жизненного цикла, которая выделяла, в качестве самостоятельных этапов, детство, юность, взрослость и старость с жестко определенными за ними статусами и ролями, перестала соответствовать меняющейся социальной реальности. Для описания новых явлений социологами были предложены уточненные модели, учитывающие возвратно-поступательную траекторию жизненного пути, характеризующуюся совмещением и сменой индивидами различных социальных ролей на протяжении всего жизненного цикла [28].
Имеющая место в эпоху Позднего модерна возрастающая индивидуализация, сопряженная с бо́льшей, чем в предыдущие эпох, размытостью и условностью традиционных социальных рамок, предполагает развитие рефлексивности и актуализирует проблему выбора жизненной траектории, конструирования идентичности из набора доступных вариантов. Социальная идентичность индивида определяется рефлексивным самосознанием, и одной из основных задач человека является разработка и уточнение траектории собственной жизни на основе свершившегося прошлого и предвосхищаемого будущего [11, p. 75–81]. В силу этого биографизация жизненного пути становится одной из отличительных черт общества Позднего модерна [26]. Биографизация связана с биографической рефлексией, проблемой выбора из возможных, на разных этапах личной истории, вариантов построения жизни. Биографическая работа и забота индивидов связаны с корректировкой и пересмотром собственной траектории, с поиском наиболее подходящих, более желаемых, оптимальных сценариев развертывания жизни.
Изменения, вызванные, в первую очередь, дестандартизацией жизненного пути, заставляют по-новому смотреть на проблему социализации личности – ее интеграции в общество. Если раньше интеграция в общество была ключевым фактором для социальной идентификации, то в современных условиях особое внимание уделяется раскрытию индивидом собственного Я. Такое смещение акцента – следствие того, что собственная идентичность для современного человека оказывается наиболее стабильным элементом социального порядка в быстроизменяющемся мире, тогда как работа, семейные и личные отношения становятся всё более гибкими и нестабильными.
Рефлексия над собственной идентичностью выражается и в том, что индивиду требуется постоянно отслеживать собственные мотивы, желания, поведение, то, как они соотносятся с собственным внутренним Я. В этом плане биографический проект как целостное представление индивида о самом себе и своей жизненной траектории оказывается не только достаточно проработанной, но и открытой для пересмотра системой. Индивид, реагируя на новые вызовы и события, нарушающие повседневную рутину, вносит корректировки в свой биографический проект для того, чтобы они могли быть органически интегрированы в него.
Биографическое проектирование связано с формированием когнитивных конструкций на основе имеющегося личного и интерсубъективного жизненного опыта, которые оказывают определенное влияние на восприятие и интерпретацию собственной жизни. Образ будущего, мечты, планирование собственной жизни – все те аспекты биографического проекта, касающиеся будущего, формируются прошлым и настоящим: биографически детерминированной ситуацией (А. Шюц), в которой находится индивид, структурным и культурным контекстом. С социологической точки зрения, фиксация изменений в жизненных планах, ожиданиях, целях и средствах их достижения позволяет проследить фундаментальные социокультурные трансформации.
Несмотря на то, что процесс дестандартизации и биографизации касается людей, находящихся на различных этапах жизненного пути, часто в фокусе внимания социальных исследователей оказывается молодежь как наиболее восприимчивое к изменениям поколение. В исследованиях молодежи особое внимание уделяется анализу взаимосвязи и взаимодействию индивидуальной активности и социальной структуры в конкретных жизненных ситуациях, анализируются отдельные аспекты биографического проектирования: изменения жизненных целей представителей различных групп молодежи, их планов, устремлений [3].
Следует отметить, что еще до формального увеличения возраста молодежи до 35 лет, связанного с проводимой в России молодежной политикой (Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), отмечалась сильная неоднородность этой возрастной группы, определяемая как социальноэкономическими, так и культурными факторами [4, с. 17]. Выделение «молодых взрослых» (18-25 лет, либо 20-30 лет) как особой группы молодежи хоть и остается дискуссионным, но и имеет под собой вполне веские основания. Так, увеличение времени для получения образования, изменение моделей занятости, увеличение брачного возраста и возраста рождения первенцев формируют особый статус молодых взрослых, определяемый их переходным или пограничным состоянием. Отмечается, что этот возрастной период характеризируется тем, что для индивидов наиболее релевантными становятся различные социальные роли [5]. В этом возрасте молодые люди активно размышляют над своей жизнью и идентичностью, ставят вопросы о собственном будущем, принимают решения о собственной образовательной и профессиональной траектории, приватной сфере. В силу этих обстоятельств, как правило, именно молодые взрослые при изучении представлений о будущем оказываются в поле зрения исследователей.
Ряд эмпирических исследований роли представлений о будущем в биографическом проекте индивида опирается на концепцию «возможных Я» (possible selves), предложенную и Х. Р. Маркус и П. С. Нуриус [16]. Возможные Я представляют собой набор субъективно значимых представлений индивида о том, кем они могли бы быть, кем хотели бы быть, или, напротив, кем опасаются стать. Причем, возможные Я суть не просто множество потенциальных ролей, а именно конкретные, субъективно значимые переживания – надежды, страхи, фантазии – порожденные прошлым жизненным опытом индивида, его опытом социального взаимодействия, транслируемыми СМИ моделями и образцами и тем общим социокультурным контекстом, в котором живет индивид. Несмотря на то, что возможные Я – весьма изменчивые представления человека о самом себе, данный феномен, как показывают различные исследования, обладает мотивационной силой и является значимым компонентом самодетерминации личности [2]. Возможные Я анализируются в качестве неотъемлемой части общей самоконцепции личности, что позволяет рассматривать идентичность не как точку, а как вектор [29].
Позитивные представления о будущем являются фактором субъективного благополучия [8], а также одной из детерминант, влияющих на уровень образовательных достижений [15]. Вместе с тем, показано, что представления людей о своем будущем Я зависят и от личностных характеристик [22]. В отдельных исследованиях анализируется также влияние гендерного измерения на восприятие будущего [10; 17; 18]. Как привило исследователи, при изучении восприятия будущего сосредотачиваются на жизненных целях, восприятии доступных возможностей и ожиданий от будущей жизни, а также влиянии культурного фактора. В частности, показано, что если в западных странах восприятие будущего обусловлено большей ориентацией на индивидуализм и личный успех, то в восточных – на референтную группу или (со)общество [6]. Кроме того, при изучении восприятия будущего анализируется временной горизонт, когнитивное и эмоциональное восприятие будущего (степень ясности/определенности будущего, эмоции, возникающие при размышлении о нем), структура будущей жизни по планируемым социальным ролям или областям (доменам) жизни [9;19].
Небезынтересны результаты исследований восприятия будущих событий по сравнению с событиями прошлого. Так, подтверждено, что события будущего воспринимаются как более близкие, чем события прошлого (находящиеся на одном и том же расстоянии от настоящего) [7; 25]. Эта временная асимметрия обусловлена различными психологическими механизмами восприятия будущего и прошлого, воображения и памяти соответственно. Вместе с тем, события предполагаемого будущего воспринимаются более эмоционально, соответственно, имеют большую субъективную значимость.
Отдельные исследования восприятия будущего опираются на теорию карьерного развития Д. Сьюпера [24, p. 151], вполне согласующуюся с особенностями биографического проектирования в ситуации Позднего модерна. Согласно этой теории, у современного человека не профессиональное развитие формирует образ самого себя, а, напротив, представления человека о самом себе определяют его профессиональное развитие. Карьерную траекторию определяет не только сугубо профессиональная сфера, но более широкий жизненный контекст, связанный с различными статусами и ролями индивида в семье, различных сферах жизни. Я-концепция (представление человека о самом себе) формируется у индивида под действием различных факторов, как объективных (социальная среда, интеракция), так и субъективного личного опыта. Профессиональное становление осуществляется благодаря принятию тех или иных ролей, которые близки самоконцепции индивида, и достижению соответствия между представлениями и выбранной ролью. В контексте этой теории важным понятием является «карьерная адаптируемость» (career adaptability) как готовность справляться с трудностями в профессии, адаптироваться к новой работе, подчас непредвиденными изменениями в карьерное сфере и умение использовать их для собственной пользы [23, p. 254–255]. Как отмечается в ряде исследований, карьерная адаптируемость определяется оптимизмом, социальной поддержкой, субъективным благополучием, удовлетворенностью работой и позитивным восприятием будущего [21]. Ориентация на будущее является важной переменной для изучения особенностей профессиональной ориентации (career decision-making), влияющей на позитивное восприятия будущей работы [27].
Для изучения восприятия будущего используется довольно широкий набор методов и инструментов. Так, одним из способов изучения возможных Я является опросник Д. Ойзерман и Х. Р. Маркус, предлагающий респондентам представить себя через год и обозначить по три варианта для желаемого Я, ожидаемого Я и того Я, которое вызывает опасение [20]. Другой опросник, нацеленный на анализ ожиданий от будущей жизни (future expectations), предполагает оценку респондентами вероятности того или иного события в собственной будущей жизни (через десять лет). Пункты группируются в отдельные шкалы, характеризующие события в личной, образовательной и профессиональной областях [17]. Еще одной методикой изучения представлений о будущем является полуструктурированный опросник, состоящий из двух вопросов: «Когда Вы думаете о своем будущем, через сколько лет Вы можете себя представить (например, 7 или 10 лет)?» и «Подумайте о том, времени, которое Вы только что отметили и постарайтесь описать свою жизнь. Постарайтесь отметить как можно больше жизненных сфер (например, работа, семья)» [18]. Наконец, для решения более специфических задач, связанных с восприятием будущей работы, предложена шкала для измерения у молодых людей их восприятия возможного трудоустройства в будущем (Perceived Future Employability Scale) [12] на основе представлений респондентов о своей профессиональной деятельности после завершения учебы. В качестве факторов, способствующих трудоустройству молодых людей и их благополучию, рассматриваются восприятие ими своих будущих навыков, ожидаемого опыта, личных качеств, социальных связей, знания рынка труда, и понимания ими престижности учебного заведения.
Исследование представлений о будущей жизни может осуществляться и с помощью качественных методов (интервью, эссе). Анализ данных в этих дескриптивных исследования проводится в рамках интерпретативного феноменологического анализа [13], тематического анализа [6; 18; 19]. Как правило, результаты такого рода исследований представляют собой описание доменов (областей) будущей жизни и позволяют выявить типический опыт или типы представлений о будущем.
Говоря о качественных методах в изучении будущего, нельзя не упомянуть о мониторинговом исследовании представлений студентов Университета Кейптауна о будущем Южно-Африканской Республики. Для этого испытуемым необходимо было предложено написать небольшое эссе (2-3 страницы) о будущем ЮАР через 50 лет. Опираясь на идеи Карла Манхейма о социальной нестабильности, порождающей различные утопии и идеологии будущего, исследователи выявили различные типы воспроизводимой студентами идеологии. Повторные замеры по аналогичной методике позволили уточнить содержание отдельных типов и выявить связи с другими независимыми переменными [14].
Подводя итог, следует отметить, что будущее, представления о нем, занимают значимое место в психической жизни человека. Это область надежд, планов, целей, устремлений, ожиданий, касающихся как весьма конкретных эпизодов, так и жизни в целом. Возрастающая индивидуализация, дестандартизация и биографизация жизненного пути, связанная с изменением традиционных социальных институтов, определяет развитие рефлексивного самосознания и актуализацию будущего для конструирования индивидами их идентичности, биографического проектирования и корректировки своей жизненной траектории.
Современное понимание идентичности как вектора предполагает рассмотрение не только и не столько status quo индивида в настоящем, сформированного благодаря прошлому жизненному опыту и определяемого его социальной интегрированностью, но и того, кем он планирует быть, или наоборот опасается стать. Индивид черпает представления о будущей жизни из настоящего и прошлого, выбирая то, что ему ближе, на что он готов согласиться. При всем разнообразии, специфичности и даже непостоянстве индивидуальных представлений о собственной будущей жизни, за ними стоит контекстуальное интерсубъективное основание, укорененное в культуре. Благодаря этой особенности, изучение представлений о будущем приоткрывает понимание социальной среды, в которой живет человек, набора воспринятых им извне образцов, символов, идеологий.
В ряде исследований восприятия людьми собственного будущего убедительно показано, что их временная ориентация – одна из важных детерминант в целеполагании, мотивации, принятии решений, профессиональном развитии, адаптируемости, в совладании с трудными жизненными ситуациями. Подобного рода исследования имеют и практическую значимость: позволяют решать определенные задачи в управлении персоналом, в профессиональной ориентации и карьерном консультировании. Результаты ряда исследований свидетельствуют, что в условиях современной быстроменяющейся экономики необходимо не только ставить акцент на формировании профессиональных компетенций, но и обращать внимание на личностный потенциал молодых людей (их субъективное благополучие, жизнестойкость, представления о будущем), который играет значимую роль в адаптации к жизненным, профессиональным, карьерным переходам: школа – среднее/высшее учебное заведение, вуз – работа, работа – работа. Рефлексивный потенциал методик, ориентированных на изучение представлений о возможных, будущих Я, актуализирует размышления респондентов о дальнейшей жизни и их планах, помогая тем самым подойти более осмысленно к проблеме выбора и предупредить о возможных вызовах в будущем.
Список литературы Восприятие будущего и биографический проект индивида
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
- Василевская Е. Ю., Молчанова О. Н. Возможные Я: обзор зарубежных исследований // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 13. № 4. С. 801-815.
- Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований. М: ФНИСЦ РАН, 2020. 688 с. DOI: 10.19181/monogr.978-5-89697-325-6.2020
- Охана Я., Луков В. А., Зубок Ю. А., Леонов В. Г., Агранович М. Л. Молодежь России: Обзор литературы [Электронный ресурс]. М. 2010. URL: http://www.unrussia.ru/sites/default/files/doc/youth_in_Russia_Executive_Summary_rus.pdf (дата обращения: 14.09.2021).
- Arnett J. J. Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties // American Psychologist. 2000. Vol. 55(5). P. 469-480. DOI: 10.1037/0003-066X.55.5.469
- Bellare Y., Michael R., Gerstein L. H., Cinamon R. G., Hutchison A., Kim T., Choi Y. Future Perceptions of U.S. and Israeli Young Male Adults // Journal of Career Development. 2019. Vol. 46(4). P. 351-365. DOI: 10.1177/0894845318763956
- Caruso E. M., Van Boven L., Chin M., Ward A. The Temporal Doppler Effect: When the Future Feels Closer Than the Past // Psychological Science. 2013. Vol. 24(4). P. 530-536. DOI: 10.1177/0956797612458804
- Chua L. W., Milfont T. L., Jose P. E. Coping Skills Help Explain How Future-Oriented Adolescents Accrue Greater Well-Being Over Time // Journal of Youth and Adolescence. 2015. Vol. 44. P. 2028-2041. DOI: 10.1007/s10964-014-0230-8
- Cinamon R. G., Rich Y. Work and family plans among at-risk Israeli adolescents: A mixed-methods study // Journal of Career Development. 2014. Vol. 41. P. 163-184. DOI: 10.1177/0894845313507748
- Croft A., Schmader T., Block K. Life in the Balance: Are Women's Possible Selves Constrained by Men's Domestic Involvement? // Personality and Social Psychology Bulletin. 2019. Vol. 45(5). P. 808-823. DOI: 10.1177/0146167218797294
- Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991. 264 p.
- Gunawan W., Creed P. A., Glendon A. I. Development and Initial Validation of a Perceived Future Employability Scale for Young Adults // Journal of Career Assessment. 2019. Vol. 27(4). P. 610-627. DOI: 10.1177/1069072718788645
- Hahn S. J., Kinney J. M. When I'm 75: College Students' Self Perceptions of the Challenges of Aging // The International Journal of Aging and Human Development. 2020. Vol. 91(4). P. 404-420. DOI: 10.1177/0091415020912930
- Leslie T., Finchilescu G. Perceptions of the future of South Africa: a 2009 replication // South African Journal of Psychology. 2013. Vol. 43(3). P. 340-355. DOI: 10.1177/0081246313493595
- Ma Y., Huang G., Autin K. L. Linking Decent Work With Academic Engagement and Satisfaction Among FirstGeneration College Students: A Psychology of Working Perspective // Journal of Career Assessment. 2021. Vol. 29(1). P. 148-163. DOI: 10.1177/1069072720943153
- Markus H., Nurius P. Possible selves // American Psychologist. 1986. Vol. 41(9). P. 954-969. DOI: 10.1037/0003-066X.41.9.954
- Mello Z. R., Swanson D. P. Gender Differences in African American Adolescents' Personal, Educational, and Occupational Expectations and Perceptions of Neighborhood Quality // Journal of Black Psychology. 2007. Vol. 33(2). P. 150-168. DOI: 10.1177/0095798407299514
- Michael R., Kim T., Hutchison A., Cinamon R. G., Gerstein L. H., Park J., Choi Y., Bellare Y., Collins R. U.S. and Israeli young women's future perceptions // International Journal of Educational and Vocational Guidance. 2017. Vol. 17. P. 121-141. DOI: 10.1007/s10775-015-9320-8
- Michael R., Shum K. K-M. Future perceptions of Israeli and Hong Kong young adults // International Journal for Educational and Vocational Guidance. 2021. Vol. 21. DOI: 10.1007/S10775-021-09479-Y
- Oyserman D., Markus H. R. Possible selves and delinquency // Journal of Personality and Social Psychology. 1990. Vol. 59(1). P. 112-125. DOI: 10.1037/0022-3514.59.1.112
- Oztemel K., Yildiz-Akyol E. The Predictive Role of Happiness, Social Support, and Future Time Orientation in Career Adaptability // Journal of Career Development. 2021. Vol. 48(3). P. 199-212. DOI: 10.1177/0894845319840437
- Rizzo A., Chaoyun L. How young adults imagine their future? The role of temperamental traits // European Journal of Futures Research. 2017. Vol. 5: 9 DOI: 10.1007/s40309-017-0116-6
- Savickas M. L. Career adaptability: an integrative construct for life-span, life-space theory // The Career Development Quarterly. 1997. Vol. 45(3). P. 247-259. DOI: 10.1002/j.2161-0045.1997.tb00469.x
- Savickas M. L. Career Construction: A Developmental Theory of Vocational Behavior In Career choice and development. 4th ed., D. Brown and associates (eds.). 2002. John Wiley & Sons, Inc. P. 149-205.
- Si K., Wyer R. S., Dai X. Looking Forward and Looking Back: The Likelihood of an Event's Future Reoccurrence Affects Perceptions of the Time It Occurred in the Past // Personality and Social Psychology Bulletin. 2016. Vol. 42(11). P. 1577-1587. DOI: 10.1177/0146167216665343
- Vinken H. New life course dynamics?: Career orientations, work values and future perceptions of Dutch youth // Young. 2007. Vol. 15(1). P. 9-30. DOI: 10.1177/1103308807072679
- Walker T. L., Tracey T. J. G. The role of future time perspective in career decision-making // Journal of Vocational Behavior. 2012. Vol. 81(2). P.150-158. DOI: 10.1016/j.jvb.2012.06.002
- Walther A. Regimes of youth transitions: Choice, flexibility and security in young people's across different European contexts // Young. 2006. Vol. 14(2). P. 119-139. DOI: 10.1177/1103308806062737
- Williams E. F., Gilovich T. Conceptions of the Self and Others Across Time // Personality and Social Psychology Bulletin. 2008. Vol. 34(8). P. 1037-1046. DOI: 10.1177/0146167208317603.