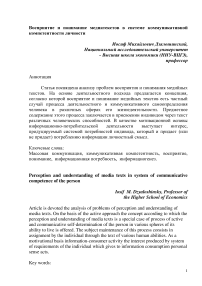Восприятие и понимание медиатекстов в системе коммуникативной компетентности личности
Автор: Дзялошинский Иосиф Михайлович
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу проблем восприятия и понимания медийных текстов. На основе деятельностного подхода предлагается концепция, согласно которой восприятие и понимание медийных текстов есть частный случай процесса деятельностного и коммуникативного самоопределения человека в различных сферах его жизнедеятельности. Предметное содержание этого процесса заключается в присвоении индивидом через текст различных человеческих способностей. В качестве мотивационной основы информационно-потребительской деятельности выступает интерес, продуцируемый системой потребностей индивида, который и придает (или не придает) потреблению информации личностный смысл.
Массовая коммуникация, коммуникативная компетентность, восприятие, понимание, информационная потребность, информациогенез
Короткий адрес: https://sciup.org/14752370
IDR: 14752370
Текст научной статьи Восприятие и понимание медиатекстов в системе коммуникативной компетентности личности
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы
«Умные, черт возьми, эти журналисты.
Сами пишут, сами читают и сами себя понимают».
Б. Нушич
Коммуникативная компетентность складывается из способности воспринимать, понимать и излагать мысли и чувства, смыслы и сведения. Все эти способности могут существовать на начальном, среднем и высоком уровнях. Кроме того, коммуникация, как сфера человеческой активности, состоит из множества сегментов, среди которых медиа представляет собой лишь малую часть, причем не самую значительную. Например, есть еще деловые коммуникации, корпоративные коммуникации, политические коммуникации, гражданские коммуникации, в конце концов, межличностные коммуникации.
Причем все эти сегменты связаны друг с другом как вода в разных пробирках, соединенных друг другом. Невозможно повысить медиакомпетентность, не повышая компетентность в других сферах коммуникации. Следовательно, зацикленность на медиакомпетентности свидетельствует о специфической аберрации профессионального сознания людей, представляющих интересы медиаотрасли.
Восприятие и понимание:социокибернетический и деятельностный подходы
Проблемы восприятия и понимания текстов различных типов – учебных, научных, массовых – в настоящее время интенсивно изучаются в рамках различных наук.
Среди различных подходов к этой проблеме выделяются два основных. Один из них – информационный (или социокибернетический) – связан с представлением о том, что любое сообщение – это, прежде всего, "конечное и упорядоченное множество элементов некоторого набора, выстроенных в виде последовательности знаков по определенным законам: законам "орфографии", "грамматики", "синтаксиса", "логики" и т.д.".[1] В другой своей работе этот же автор указывает, что "сообщение - это конечное упорядоченное множество элементов восприятия, взятых из некоторого "набора" и объединенных в некоторую структуру".[2]
Информационная концепция восприятия описывает внутреннюю деятельность человека, воспринимающего некий текст, по аналогии с работой технических опознающих устройств.[3]
При таком подходе процессы потребления информации вписываются в абстрактную систему коммуникации, элементами которой выступают:
-
а) отправитель сообщения,
-
б) определенный набор знаков,
-
в) канал, по которому сообщение передается во времени и пространстве,
-
г) получатель.
Информационная теория коммуникации предполагает, что и отправитель и получатель сообщения обладают более или менее совпадающими наборами знаков. Однако совпадение перечней никак не обуславливает какое-либо физическое сходство между отправителем и получателем. Отправителем может быть и отдельное лицо, и группа лиц, и сеть радиовещания, и обитатель отдаленной галактики и весь мир природы. Важно, чтобы получатель понимал соответствующий набор знаков.
Сам процесс коммуникации с этой точки зрения включает в себя следующие основные компоненты: выбор известных знаков из перечня отправителя, комбинирование и передачу их по каналу коммуникации и опознавание воспринятых знаков получателем с помощью имеющегося у него набора. Передача идей возможна только при условии, когда названные два набора имеют общую часть.
По мере повторного осуществления этого процесса в системах, обладающих памятью и "статистическим восприятием" (в частности, в человеческом мозгу), восприятие одних и тех же знаков постепенно обеспечивает все большую площадь пересечения перечня получателя с перечнем отправителя.
Помимо общего набора знаков и отправитель, и получатель должны обладать одинаковым кодом, то есть набором правил, создающих в сознании получателя большую или меньшую возможность предсказать сообщение. В состав кода входят различные правила грамматики, синтаксиса, логики, здравого смысла, правдоподобия и т.д.
Данная теория, безусловно, описывает некоторые закономерности функционирования различных систем коммуникации, в том числе и массовой. Однако ее предельно абстрактный уровень не позволяет выявить весьма существенные особенности человеческого восприятия информации.
Альтернативой информационному, социокибернетическому подходу к анализу восприятия является концепция, опирающаяся на представление об активной, деятельностной природе человека.
С точки зрения деятельностной концепции восприятие возникает как психический процесс, обслуживающий практическую жизнедеятельность человека. Специальными экспериментами исследователей установлено, что переработка информации человеком представляет собой не просто отражение статистической структуры сигналов, а активную деятельность, приводящую каждый раз к возможно более эффективному решению задачи.
Можно считать доказанным, что результат восприятия, представляющий собой целостный образ, изоморфный той или иной совокупности параметров объекта, формируется, объективируется, корректируется, проверяется (по степени адекватности) в ходе практической деятельности человека.
Дело не только в том, что восприятие и понимание заключенной в текстах информации является своеобразной и достаточно сложной формой интеллектуальной деятельности, поскольку предполагает осуществление смыслового анализа, полнота и глубина которого определяются, во-первых, тем, в контекст какой деятельности включены процессы восприятия и понимания, решению каких задач они подчинены, а во-вторых, тем, насколько применяемые способы восприятия и понимания адекватны содержанию и структуре текста.
Дело еще и в том, что с точки зрения деятельностной концепции восприятия, потребление информации рассматривается как особая форма активности человека, основными функциональными компонентами которой являются: мотивационно-ориентировочный (потребности), исполнительский и контрольный.
Потребности - мотивационная основа восприятия и понимания текстов массовой информации
Вопрос о потребностях, побуждающих человека к извлечению информации из текстов, распространяемых по каналам массовой информации, уже рассматривался в литературе [5], но пока что далек от своего разрешения.
С точки зрения деятельностного подхода, информационные потребности отдельного человека, обращающегося к средствам массовой информации, как правило, тесно связаны с его практической деятельностью, осуществляемой в рамках общественного разделения труда. Другими словами, необходимость в информации возникает тогда, когда человек, попав в ситуацию нехватки каких-то необходимых ему условий и средств воспроизводства и развития своей сущности, начинает исследовать проблемную ситуацию, что требует рассмотрения имеющейся в его сознании информационной модели. Для того, чтобы успешно разрешить проблемную ситуацию, надо найти информацию о том, как это сделать. Индивид вынужден на основании уже имеющейся информации достраивать идеальную модель ситуации и пытаться определить характер необходимой информации. Эти представления о том, какой должна быть та информация, обладание которой поможет разрешить проблемную ситуацию, приводят к тому, что потребностное состояние получает определенную направленность и перерастает в информационную потребность.
Возникшая информационная потребность включает следующие основные моменты:
-
1) чувство нехватки какой-то информации и стремление эту нехватку восполнить;
-
2) наличие представлений, хотя бы приблизительных, о том, какая информация нужна (содержание потребности). В содержании потребности, в свою очередь можно выделить уже известную информацию (по которой ведется поиск) и ту информацию, которая в данный момент неизвестна, но необходима для удовлетворения потребности. Эта информация является предметом информационной потребности.
При этом следует иметь в виду, что потребностное состояние представляет собой "особый вид психической напряженности". Эта психическая напряженность генетически связана с "базовой" деятельностью, однако, раз возникнув, она может стать относительно независимой от деятельности и воспроизводится "по памяти", вне конкретной проблемной ситуации. А поскольку идеальная модель всегда предшествует реальной деятельности, состояние психической напряженности может возникать даже в те моменты, когда соответствующая проблемная ситуация еще не наступила, а только прогнозируется. Этим можно объяснить наблюдаемые временные несоответствия между "базовой" деятельностью и потребностью в какой-то информации.
В этих случаях субъект, как правило, имеет довольно приблизительные представления о нужной информации и стремится просто "быть в курсе".
Таким образом, процесс формирования информационной потребности идет одновременно как бы по двум взаимосвязанным направлениям. С одной стороны, в ходе "базовой" деятельности возникает потребностное состояние, образующее внутреннее поле потребности. С другой, - информационный потенциал человека, усвоенные им общественные нормы и способы действия ведут к тому, что потребностное состояние получает направленность на информацию определенной тематики и вида.
При этом наблюдается прямая связь между богатством информационного потенциала личности и содержанием информационной потребности: чем богаче и глубже знания и опыт человека в какой-либо области деятельности, тем точнее, дифференцированней его представления о нужной информации; отсутствие соответствующего информационного потенциала и опыта ведет к тому, что представления о требуемой информации бывают, как правило, неопределенны и неадекватны.
Несоответствие между условиями "базовой" деятельности и информационным потенциалом ведет к возникновению информационных потребностей, содержание которых в значительностй степени неадекватно возникшей проблемной ситуации. В результате человек может просто "не узнавать" предложенную информацию, поскольку она не будет соответствовать имеющимся у него представлениям.
Информационный потенциал и опыт восприятия информации складываются непосредственно в процессе потребления информации, что, в свою очередь, неразрывно связано со сложившейся в обществе системой производства социальной информации и средств ее доведения до потребителей. Таким образом, содержание информационной потребности и способы ее удовлетворения непосредственно зависят от производства социальной информации и других информационных факторов - образования, социального окружения, "информационного сервиса".
При этом следует учитывать то обстоятельство, что практически каждый человек современного общества осуществляет не одну деятельность, а несколько. Он является специалистом в определенной области, учится, ведет общественную работу, имеет хобби, занимается устройством своего быта и т.д. Любая деятельность на определенном уровне своего развития может привести к возникновению информационной потребности. Поэтому современный человек имеет, как правило, сложную систему информационных потребностей, в определенной степени отражающую систему реализуемых им видов деятельности.
В то же время не любая деятельность человека ведет к формированию у него соответствующей информационной потребности. Если деятельность носит репродуктивный характер, т.е. цель по крайней мере однажды уже достигалась, необходимость в получении информации будет минимальной. Если целью деятельности является не простое воспроизведение известного, а создание принципиально нового, то человеку требуется построить новую идеальную модель такой деятельности. При отсутствии у него соответствующего информационного потенциала возникает определенная информационная потребность, удовлетворение которой становится одним из важных этапов деятельности.
Таким образом, развитие и усложнение выполняемой человеком деятельности происходит в результате использования им уже имеющейся в обществе социальной информации. В свою очередь, развитие и усложнение деятельности ведет к производству новой социальной информации, наиболее значимая часть которой затем распространяется в обществе. Эта информация потребляется другими людьми в процессе деятельности, в результате чего развивается их информационный потенциал и опыт. Это опять ведет к развитию деятельности и повторению всего процесса движения социальной информации на более высоком уровне. В целом описанный процесс обозначают как общественный информациогенез.
Информационные потребности изменяются вместе с движением социальной информации в обществе, поскольку в процессе этого движения постоянно меняются основные предпосылки их формирования - деятельность и информационный опыт людей. В свою очередь, информационные потребности оказывают важное управляющее воздействие на общественные институты и отдельных индивидов, занимающихся созданием, сбором, хранением, распространением и использованием информации, ориентируя их на производство, распространение и потребление той социальной информации, которая способна удовлетворять имеющиеся потребности и соответствует сложившемуся в обществе уровню деятельности и сформировавшемуся информационному потенциалу.
Общество, понимаемое как совокупность социальных институтов, оказывает влияние практически на все элементы общественного информациогенеза. Оно определяет цели и задачи деятельности и создает условия для ее развития, формирует информационный потенциал и опыт людей через существующие институты образования и воспитания, а также систему производства и распространения социальной информации, создает соответствующие условия и стимулы использования информации в деятельности и т.д. Этим самым общество непосредственно влияет на процессы формирования и удовлетворения информационных потребностей и определяет их содержание.
Все вышесказанное позволяет представить процесс информационнопотребительской деятельности следующим образом.
Исходным моментом в развертывании акта информационнопотребительской деятельности является возникновение такой ситуации, в которой индивид сталкивается с практической или познавательной задачей, способ решения которой ему целиком или частично неизвестен. Установление этого факта актуализирует интерес к определенной информации и позволяет индивиду выделить и принять собственно информационно-потребительскую задачу, то есть определить совпадающую по содержанию со смыслообразующим мотивом конечную цель (мотив-цель, по А.Н. Леонтьеву) своей деятельности.
Анализ условий, в которых осуществляется коммуникация и в которых должна быть достигнута конечная цель, приводит к предварительному выделению системы промежуточных целей, средств и способов их достижения, т.е. к конструированию плана действий по получению необходимой информации. Реализация намеченного плана обеспечивается в процессе выполнения системы действий по восприятию, обработке и преобразованию информации.
На эти действия накладываются действия текущего контроля, которые выступают в форме произвольного внимания, обеспечивающего соответствие фактического течения деятельностного акта намеченному плану. В случае необходимости осуществляется коррекция самого плана. Наконец, ретроспективная оценка позволяет индивиду установить степень реализации смыслообразующего мотива ("мотива-цели") и тем самым либо побуждает его к дополнительной коррекции и повторному выполнению всей системы действий, либо санкционирует переход к постановке и решению новой задачи.
Таким образом, можно утверждать, что информационнопотребительская деятельность направлена на решение разнообразных практических и познавательных задач, предполагающих выявление, анализ и обобщение принципа построения способов осуществления некоторого класса практических или познавательных действий. Усвоение этого принципа означает присвоение индивидом (или развитие уже имеющейся у него)
способности, позволяющей ему самостоятельно находить способы решения широкого круга частных задач, то есть действовать в качестве реального субъекта деятельности и общения. Именно потребность в присвоении человеческих способностей, в расширении своих возможностей как субъекта деятельности и общения, (которая актуализируется в определенных ситуациях, выступая в форме информационных интересов), является предпосылкой и необходимым условием принятия (или самостоятельной постановки) индивидом задач, связанных с потреблением информации.
Подчеркивая безусловную зависимость информационных потребностей от осуществляемой человеком деятельности, следует вместе с тем указать, что потребности человека определяются не только необходимостью обладания информацией для решения определенных задач. Не менее важным стимулом для развития информационных потребностей является мера включенности индивида в общий контекст информационных процессов. Другими словами, информационные потребности формируются в поле взаимодействия по крайней мере двух "векторов" - вектора предметной деятельности и вектора общения.
Таким образом, с этой точки зрения информационную потребительскую деятельность следует рассматривать как особую форму активности личности, направленную на присвоение выраженных в текстовой форме знаний, ценностей и норм, концентрирующих в себе разнообразные человеческие способности. В основе этой формы активности лежит потребность индивида в расширении своих возможностей как субъекта деятельности и общения (которая представляет собой реализацию на индивидуально-личностном уровне фундаментальной потребности любых социальных систем в воспроизводстве и развитии своей сущности) [Примечание 1].
Разумеется, значительную роль в обеспечении условий для присвоения человеческих способностей играют школа, библиотека, университет и др. Однако на основе текстов, содержащих изложение и интерпретацию теории (лекции, учебники, научно-популярная литература и т.п.) человеческие способности усваиваются в их статическом состоянии, а не в развитии. В реальных жизненных ситуациях, в которых оказывается индивид, знаний, приобретенных им в "школе", оказывается недостаточно для адекватного реагирования на внешние воздействия. Возникает (более или менее часто) нужда в дополнительных знаниях, необходимых для решения конкретных задач.
Для удовлетворения потребности в дополнительных знаниях, новых ценностях и нормах, индивид обращается к различным каналам коммуникации, каждый из которых, как правило, ориентирован на распространение какого-то более или менее специализированного вида информации. Что касается каналов массовой коммуникации, то их особенностью является универсальный характер предлагаемой информации. Если потребление информации в других информационных комплексах имеет свое отчетливое предметное содержание (учебная деятельность в школе направлена на общее развитие личности, то есть присвоение общих интеллектуальных способностей; учебная деятельность в вузе направлена на профессиональное самоопределение личности; потребление информации из различных специальных систем коммуникации имеет целью присвоение вполне конкретных способностей и т.д.), то потребление информации из каналов массовой коммуникации может выступать как средство удовлетворения потребности в оперативных знаниях (дополняющих знания, получаемые из специальной и общественно-политической литературы); как средство удовлетворения потребности в образно-эмоциональных переживаниях (дополняющих получаемые в ходе взаимодействия с каналами художественной коммуникации), и даже как самостоятельный, но производный вид потребности, доходящий иногда до степени ритуальности (утренний просмотр газет, вечерний просмотр телевизора и т.п.).
Тем не менее, мы можем выделить какое-то, пусть и весьма расплывчатое, ядро предметного содержания, на которое ориентирована информационно-потребительская деятельность в сфере массовой коммуникации. В качестве этого ядра выступает оперативная информация, связанная с основными видами деятельности субъекта и основным кругом его общения.
Важность массовой коммуникации как источника информации, обеспечивающей воспроизводство и развитие человеческих способностей , как раз и обусловлена тем обстоятельством, что именно в этой сфере оперативно создаются и оперативно распространяются конкретные описания реальных ситуаций разнообразных видов человеческой деятельности.
Кроме того, одной из форм проявления фундаментальной потребности в воспроизводстве и развитии своей человеческой сущности является мировоззренческая потребность. Мировоззрение невозможно вложить в человека; он вырабатывает его сам из имеющегося познавательного, ценностного, практического опыта. Внутренним, субъективным источником активности, направленной на овладение мировоззрением, является потребность в превращении категорий общественного сознания в категории индивидуального сознания. Другими словами, речь идет о присвоении высших духовных способностей общественного человека. Понятно, что такая потребность возникает только на определенной стадии развития индивида (а иногда и вообще не возникает). Отсутствие такой потребности снимает сам вопрос о формировании мировоззрения, переводя соответствующие действия личности из области активно-личностного действования в область реактивного поведения. Данная потребность выступает как интеллектуальное и эмоционально-психологическое состояние человека, отражающее нужду в таком теоретическом, методологическом инструментарии, с помощью которого можно было бы правильно определить свое отношение к окружающей среде в целом и сформулировать принципы взаимодействия с ней.
Таким образом, можно сказать, что потребность в информации выступает формой проявления потребности в осмыслении действительности, в которой живет человек, потребности в овладении социокультурными программами, выработанными в рамках общественной практики.
Разумеется, в условиях, когда реальные формы жизнедеятельности человека таковы, что действительность, в которой он живет, чужда ему, когда овладение ею представляется ненужным, в этих условиях потребность в осмыслении мира вырождается, редуцируется, и процесс потребления информации превращается в ритуал.
Активная и пассивная формы потребления информации
Осуществленный выше анализ дает основания для вывода о том, что потребление информации есть особая форма активности личности, которая направлена на присвоение выработанных человеческих знаний, на ориентацию в окружающей среде, на определение способов изменения действительности и т.д. В основе этой активности лежит потребность индивида в расширении своих возможностей как субъекта деятельности и общения.
С этой точки зрения можно сказать, что процесс потребления информации в зависимости от мотива-цели может осуществляться в двух формах - активной и реактивной (пассивной).
Если потребление информации выступает как способ осознанного поиска сведений, необходимых для решения определенной познавательной, поведенческой или какой-нибудь иной задачи, то присвоение реципиентом некоторой новой информации означает расширение круга его способностей как реального субъекта деятельности и общения. Следовательно, потребность в расширении своих возможностей за счет присвоения родовых человеческих способностей, выступая в форме информационного интереса, определяет активную, самостоятельную ориентацию в потоке информации.
Отсутствие потребности в саморазвитии, в присвоении накопленного человечеством опыта, лишает процесс потребления информации личностного смысла и превращает его в ряд последовательных действий, выполняемых по определенным нормам и правилам, т.е. в ритуал. В этом случае реципиент функционирует не как личность, не как самосоятельный субъект присвоения человеческого опыта, а как объект воздействия, осуществляемого с помощью информации, как управляемый индивид. Его активность приобретает форму реактивного восприятия информации, регулируемого внешними воздействиями, эффективность которых в значительной степени определяется ролевыми предписаниями и нормами, усвоенными реципиентом, их ценностью для него и другими случайными факторами.
Активное потребление информации отвечает потребности личности в развитии своих сущностных сил, в изменении себя как субъекта человеческой деятельности и общественных отношений. Удовлетворяя и воспроизводя эту потребность как свою предпосылку и конечную цель, активное потребление информации оказывается саморегулирующейся системой, способной функционировать (относительно) независимо от внешних условий и воздействий.
Основной результат активного потребления информации состоит в том, что индивид присваивает ту или иную часть человеческого опыта и, следовательно, развивается как личность.
Результат реактивного потребления информации сводится к усвоению частных фактов и сведений, единственное положительное значение которых заключается в возможной интенсификации имеющихся у индивида функциональных свойств. Реактивное потребление информации не отвечает какой-либо определенной специфической потребности индивида. Будучи связанно с потребностями внешним (а потому случайным) образом, оно лишено внутренней основы для функционирования и развития и, оказывается целиком зависимым от внешних условий и воздействий.
Для читателя с такой ориентацией предлагаемая информация выступает в качестве внешних, противостоящих ему сведений, а не в качестве форм его собственной жизнедеятельности, его самореализации как субъекта человеческой деятельности. В простейшей форме такая установка выражается в форме любопытства: "Что (о чем или о ком) там сегодня они (журналисты) пишут?"
Социальная сущность информационно-потребительской деятельности не исчерпывается, однако, тем, что обеспечивает индивидам возможность овладеть мировоззрением и человеческими способностями как важнейшей сущностной силой человека. Не менее важно и то обстоятельство, что она является социально-нормированной деятельностью и, вследствие этого, одной из форм освоения ценностей и норм, лежащих в основе любой человеческой деятельности.
Общество определяет требования к содержанию информационно -потребительской деятельности (впрочем, как и других форм деятельности), качеству ее конечного "продукта", создает необходимые (экономические, правовые и прочие) условия для ее осуществления, санкционирует и оценивает ее результаты. Иными словами, информационно-потребительская деятельность не является частным делом индивида, а выступает как одна из его общественных функций. В этом ее принципиальная общность с трудом.
Разумеется, общество нормирует информационно-потребительскую деятельность, исходя из задач воспроизводства своей социальной структуры, поэтому эти нормы имеют не абстрактно-всеобщий, а конкретноисторический характер. Но в любом случае их наличие составляет необходимое условие развертывания информационно-коммуникативного процесса. Это значит, что в процессе коммуникации отношения индивида с другими людьми строятся не как частные, межиндивидные, а приобретают открыто выраженный социальный характер. От того, как они складываются, во многом зависит, какой смысл для индивида приобретут нормы, регулирующие коммуникацию: выступят ли они для него как его собственные нормы жизнедеятельности или останутся чем-то внешним, чуждым его собственной природе.
Вследствие этого точно таким же объектом внешнего усвоения являются и социальные нормы потребления информации, которые выступают как определенные внешние требования к объему знаний об окружающей действительности, которым должен обладать индивид, чтобы не подвергнуться общественным санкциям. Индивид сообразуется с этими нормами, как с необходимым условием своего функционирования в обществе, но они не превращаются для него в собственные ценности, не выступают в роли внутренних регуляторов его самодеятельности. Иными словами, в системе отношений, складывающихся в рамках неразвитых форм осознания массовой коммуникации, потребитель информации выступает в функции объекта воздействия и именно в таком качестве и воспроизводится в рамках этих отношений.
Было бы серьезной ошибкой полагать, что активное или реактивное потребление информации определяется уровнем образованности личности. Активное или реактивное (пассивное) потребление информации является следствием взаимоотношений между индивидом и той действительностью, в которой он живет. Активное потребление информации предполагает потребность в целостном освоении окружающей действительности. Но осваивать окружающую действительность (неважно, с помощью материальных или идеальных средств) можно только в том случае, если эта действительность выступает для индивида как необходимое условие его жизнедеятельности, как реальное и единственное поле приложения его сущностных сил.
Если же отражаемая средствами массовая информации действительность является чуждой, никак не входит в ту действительность, в поле которой живет данный индивид, если он не относится к этой действительности как к полю приложения своих сил, а к себе как к субъекту, призванному овладеть этой действительностью, то отношение между индивидом и информацией (а следовательно, и производящим ее журналистом) будут равнодушным, а иногда и враждебным.
Таким образом, по характеру ведущего мотива потребления информации четко выделяется три группы потребителей продукции СМИ:
Для первой характерна система мотивов, которые могут быть объединены понятием "ответственность перед собой". Потребители этой группы положительно относятся только к тем типам текстов, которые содержат информацию, нужную им лично.
Для второй группы характерны мотивы "ответственности перед другими". Представители этой группы читают, смотрят или слушают те материалы, на которые кто-то обратил их внимание, либо те органы информации, контакт с которыми считается необходимым в референтных для этих индивидов группах.
Для третьей группы характерны неустойчивые интересы, случайные мотивы обращения к средствам информации, ритуальность процесса потребления информации.
Очевидно, что только в первом случае полностью и во втором случае частично можно говорить об активном потреблении информации. В остальных случаях речь идет о пассивном потреблении или реактивной деятельности, то есть деятельности либо не имевшей, либо утратившей личностный смысл [Примечание 2].
Восприятие и понимание как процесс и результат
Рассматриваемая со своей содержательной стороны информационнопотребительская деятельность представляет собой переход от непонятного к понятному, от менее понятного к более понятному (своего рода коридор понимания, через который надо пройти вместе с объектом понимания).
Результатом этого процесса является ощущение внутренней связанности, организованности рассматриваемых явлений. Это может быть логическая упорядоченность, ясное "видение" причинно-следственных связей, когда ранее механически перечисляемые факты объединяются в единую логическую систему. При этом процесс понимания является принципиально незавершенным, изменчивым и противоречивым.
"На первый взгляд, кажется, что чтение можно определить как акт расшифровки письменного текста. Но это мало что говорит. Такая расшифровка может происходить на различных уровнях и раскрывать либо один, либо многие коды, использованные в одном и том же тексте. Читаем ли мы, когда распознаем буквы и их точное звучание, и даже складываем их в правильно звучащие слова, но при этом не понимаем их значения, так как не знаем языка, который они выражают? С другой стороны, откажемся ли мы назвать чтением то, что делает малыш, с трудом разбираясь в книге с помощью иллюстраций и определяя отдельные места заученного им наизусть рассказа по общему начертанию отдельных слов? В одном случае расшифровка знаков не означает понимания смысла написанного, в другом -понимание смысла достигнуто без расшифровки знаков".[6]
Обращаясь к анализу механизмов понимания, часть ученых рассматривают понимание как особый когнитивный процесс, целью которого является всестороннее и адекватное интеллектуальное проникновение в суть изучаемого (воспринимаемого) явления. В качестве средств понимания рассматриваются различные познавательные процедуры рациональной (интеллектуальной) деятельности, ориентированной в основном на абстрактно-теоретическое мышление. Так, например, Н.С. Автономова пишет: "...понимание есть фундаментальная синтезирующая функция разума. Понимание есть такая разумная (теоретическая) деятельность, которая включает в себя и все свои аналогии на других уровнях научного (эмпирического) и обыденного познания".[7]
А.И. Ракитов также рассматривает понимание как "...особый когнитивный эпистемический процесс, суть которого ...состоит в рационализации внерациональной информации. Это процесс выработки рационального знания из внерационального (совсем не обязательно антирационального или иррационального) "сырья". [8]
Ряд авторов придерживается принципиально иного взгляда на механизм понимания. С их точки зрения понимание представляет собой сложнейший процесс, с помощью которого человек (в единстве всех своих познавательных, мотивационных и эмоциональных характеристик) овладевает миром, в котором он живет. С позиций этого подхода понимание рассматривается как предельно широкая категория, с помощью которой обозначается универсальный способ духовного бытия человека в мире и мира в человеке, не исчерпывающегося чисто гносеологическим отношением человека к миру.
С точки зрения сторонников этого - социокультурного - подхода понимание не может быть сведено к формированию рационального понятия. Понимание захватывает не только рациональное языковое мышление, но и все подструктуры сознания, в том числе и те, которые не охватываются понятийными языками.
Вот лишь одна из возможных в этой области аналогий. Представим себе, что на нашу планету прибыл инопланетятин с задачей изучить, что такое боль. Он вооружен вполне научными методами, вплоть до регистрации активности нервных клеток, отвечающих только на болевые стимулы. Он может собрать богатейший экспериментальный материал, но, если он сам лишен чувства боли, аналогичного нашему, он никогда не поймет, что такое боль. Для этого ему надо иметь механизм сопереживания.
А.А. Брудный, выделяет четыре вида понимания текста:
-
1. Понимание - следование определенному направлению. Например, если некто, назовем его X, прочитав расписание движения поездов, смог с его помощью попасть в нужный поезд, то X, по всей вероятности, проявил понимание этого текста.
-
2. Понимание - способность прогнозировать. Кто-то, назовем его Y, высказал свои намерения, а X, со своей стороны, предположил, какие за этим высказыванием последуют (или, наооборот, не последуют) действия. Если предположение X правильно, это означает, что он понял высказывания и намерения Y.
-
3. Понимание - способность дать словесный эквивалент. X понимает, что говорит или пишет Y, если X способен передать содержание его высказывания своими словами, а Y, выслушав его, подтверждает: "Именно так я и хотел сказать".
-
4. Понимание - способность дать приемлемую реакцию. Приемлемая реакция выражается в соотносимости коммуникантов по обсуждаемой теме.
Только при наличии этих четырех видов можно говорить, что текст понятен. [9]
Подлинное понимание, охватывающее все уровни воспринимаемой системы и отражающееся на всех уровнях субъекта понимания, не может быть выражено только и исключительно в понятии. Поэтому понятийное, интеллектуальное понимание следует рассматривать как частный случай понимания, складывающегося из самых разных форм. Структура понимания немыслима без учета внелогических, т.е. психологических, социокультурных и лингвистических процедур. Большой интерес к внепонятийному пониманию был характерен для Древнего Востока. [Примечание 3.]
Существуют, разумеется, и другие подходы к проблеме понимания. Так, например, весьма влиятельной является концепция Дильтея, которая может быть - по мнению А.И. Ракитова, - представлена в следующей форме:
-
1. Специфической для математического и естественнонаучного познания процедурой является объяснение.
-
2. Специфической познавательной процедурой для наук о культуре, наук о духе или, в современной терминологии, общественных наук является процедура понимания.
-
3. Поскольку социальное понимание есть познание человеческой жизни и прежде всего индивидуального персонажа, то понимание представляет собой фиксацию, отражение, постижение, выявление интимного, неповторимого, индивидуального в сознании другого лица (понимаемого).
-
4. Как следствие этих тезисов объяснение оказывается познанием общего, массового; понимание же - познанием индивидуального, неповторимого, интимного. Отсюда и механизм понимания, его главный метод представляется по преимуществу психологическим процессом вживания в чужое "Я".[10]
А.И. Ракитов предложил, в противовес концепции Дильтея, свое "понимание понимания", которое сформулировал следующим образом:
-
1. Понимание не является познавательной процедурой, специфической лишь для общественных наук или социального познания в целом.
-
2. Понимание не является в силу этого альтернативной объяснения.
-
3. И понимание, и объяснение могут давать познание как общего, так и индивидуально, как повторяющегося, так и неповторяющегося, как общезначимого, так и интимного.
-
4. Понимание и объяснение взаимодополнительны.
-
5. Специфика понимания как особого эпистемического процесса определяется набором особых познавательных процедур.
-
6. Взаимоотношения понимания и объяснения могут быть выявлены лишь в рамках и с учетом определенной концепции рациональности. [11]
Сравнивая эти концепции, можно заметить очевидную односторонность каждой из них. Трудно согласиться с мнением, что понимание является исключительно процедурой гуманитарного познания, противостоящей объяснению как процедуре естественно-научного познания. Вместе с тем и точка зрения А.И. Ракитова, который "понимает" понимание по преимуществу рационально, т.е. в смысле "понять - это выразить в понятиях", также представляется чрезмерно узкой, слишком непосредственно связанной с интеллектуальной традицией.
Рассмотрение всего многообразия концепций понимания с точки зрения такого критерия как характер объектов понимания, также позволяет выделить два подхода. Сторонники одного из них, который может быть назван универсальным, исходят из представления, что в качестве объекта понимания выступают все без исключения фрагменты мира, в котором живет человек, в том числе и материальные.
С этой точки зрения объектом понимания может быть феномен природы, фрагмент культуры, текст, поведение отдельного представителя коллектива, чужое "Я" или собственные переживания понимающего субъекта.
Другой подход - его можно назвать семиотическим - опирается на тезис, согласно которому понимание (не в обыденном смысле, где его действительно нельзя отличить от объяснения и других подобных процедур сознания), а в точном концептуально-теоретическом значении этого термина - связано не с самими по себе объектами природы, а с предметами культуры.
С нашей точки зрения, понимание (как процесс) представляет собой особый вид активности социального субъекта, направленной на целостное осмысление окружающего мира с целью включения его в свой внутренний мир, т.е. присвоения тех его элементов, которые обеспечивают расширение возможностей субъекта как в плане деятельности, так и в плане общения. Таким образом, понимание выступает как форма активного информационного взаимодействия личности с миром, в котором он живет. Разумеется, в наибольшей степени нас будет интересовать процесс понимания текстов массовой информации, однако исходной предпосылкой является тезис о том, что понимание текстуально оформленной информации является частным случаем понимания вообще, которое является стороной любого информационного взаимодействия личности и мира. С этой точки зрения понимание текста есть лишь средство для освоения реальной действительности тем или иным способом: практическим, познавательным, ценностным, художественным и т.д.; способ овладения человеком определенным, нередко внешне не выявляющимся содержанием (смыслом) социокультурных образований.
Г.П. Щедровицкий, возражая против трактовки понимания текста как адекватной интерпретации заложенного в него автором содержания и смысла, подчеркивал, что понимание зависит "не столько от текста и производящего его мышления, сколько от более широкого контекста деятельности, в которую оно включено" и что в зависимости от способов этой деятельности "понимание выявляет в одном и том же тексте разные смыслы и соответственно этому строит разные поля и разные структуры содержания". [12]
С этой точки зрения понимание представляет собой процесс (и результат этого процесса) воссоздания человеком в ходе осмысления знака (явления, орудия, текста и т.п.) той "ситуации деятельности", в рамках которой создается осмысление фрагмента действительности. Понимание представляет собой по сути дела процесс воссоздания культурной деятельности, связанной с данным знаком, осознание его "сделанности". Другим словами, стремясь понять текст, мы стремимся найти в нем нечто, что обогатит нас новыми, неизвестными нам программами жизнедеятельности.
Разумеется, положение о том, что понимание чего-либо есть знание его "сделанности", не следует трактовать упрощенно. Можно быть хорошим электромонтером, но слабо разбираться в сути электрических явлений. Характер понимания "сделанности" обусловлен видом деятельности, к которой причастен человек. Поэтому понимание "сделанности" синхрофазотрона для рабочего, конструктора и физика-теоретика есть понимание в различных плоскостях.
Общественные и личностные координаты понимания
Сказанное позволяет предположить, что сам по себе акт восприятия и осмысления любой информации происходит только в том случае, если содержащаяся в тексте программа социокультурной деятельности представляет для личности какую-то ценность (сегодняшнюю или завтрашнюю), то есть помогает определить цели социальной деятельности, либо средства достижения этих целей. Включая элементы реальности в сферу своей целесообразной деятельности, человек тем самым рассматривает реальность как сложную систему ценностей. В качестве ценности могут выступать не только предмет, орудие, инструмент, сам человек, но и слово, знак, действие, отношение - любой элемент человеческой культуры.
Программа социокультурной деятельности, выступающая содержанием текста, имеет, если можно так выразиться, два измерения - общественное и личностное. Общественное измерение содержания текста выражается через социальное значение элементов текста, личностное - через так называемый личностный смысл. Если социальное значение выражает общественное отношение к действительности, то личностный смысл - личное отношение к этой социально-осмысленной действительности. Личностный пласт осмысления действительности зачастую черезвычайно трудно передать, он глубоко индивидуален и тесно связан с эмоциональной сферой индивида, поскольку реализуется в его переживаниях.
Механизм перехода социальных значений в структуру личностного смысла изучен еще недостаточно. Однако отмечена большая роль, которую играет в процессе принятия социальных значений и их вхождения в структуру мотивов и целей индивидуальной деятельности социальное одобрение данного вида деятельности или поведения. Этот механизм обусловливает и формирование представлений личности о себе самой, поскольку формирование представления о собственном "Я" происходит в процессе осознания личностью себя как социально-значимой ценности.
В свою очередь, в структуре личностных смыслов выделяется, как отмечалось выше, оценка предъявленных социальных значений и личностное активное отношение к этим значениям.
Таким образом, воспринимая текст в активном режиме, то есть, стремясь его понять, читатель постоянно переводит общественные значения в личностные смыслы. А это означает, что процесс понимания связывает воедино не две системы - текст и читатель, а три: - текст - читатель - другие люди, с которыми читатель взаимодействует (через общественные значения). В зависимости от того, какой из трех компонентов этой триады берется за точку отсчета, формируются три разных подхода к анализу информационнопотребительской деятельности.
Один из них опирается на утверждение, что информационнопотребительская деятельность связана с выявлением и усвоением смысла воспринимаемого текста. Следовательно, понять что-то значит узнать смысл, заключенный в тексте. Область понимаемого здесь просто совпадает с областью познанного и к пониманию приложимы все характеристики значения (истинность, ложность, вероятность, относительность и т.д.).
Второй подход принципиально противоположен первому: процесс информационно-потребительской деятельности рассматривается как интерпретация или наполнение смыслом того, что без этой процедуры смыслом не обладает, превращение некоторого текста в осмысленный.
Многие ученые, придерживающие такой концепции, настойчиво подчеркивают мысль о том, что понимание не является продуктом простого извлечения смысла из предложенной информации. "Смысл нельзя хранить, передавать, преобразовывать, как информацию, - его можно только порождать продуктивно или репродуктивно... Слова не несут в себе смысл -они получают смысл, наделяются им только в актах их понимания человеком". [13]
Таким образом, можно констатировать, что процессы восприятия и понимания медиатекста, никогда не происходят по схеме "вычерпывания" информации, как это иногда представляется в некоторых работах. С современной точки зрения понимание не ограничивается усвоением какого-то готового, заранее фиксированного смысла. Тексту или произведению может быть придан и иной смысл, который даже не имел в виду автор. Причем новая интерпретация, учитывающая изменения, происшедшие в реалиях эпохи, может не только обеднять, но и обогащать заложенные в тексте идеи.
Третий подход связан с трактовкой информационно-потребительской деятельности как специфической формы познавательного отношения "субъект-субъект". Другими словами, в ходе осуществления этой деятельности один человек познает не действительность, а другого субъекта. С этой точки зрения понимание кем-то чего-то выраженного в "тексте", который был кем-то создан, предполагает "встречу" субъектов (известное выражение М.М. Бахтина), "...взаимодействие реальных позиций их сознания..." [14] Но такое взаимодействие возможно только тогда, когда в каждом из взаимодействующих субъектов есть желание и предпосылки такого взаимодействия, предпосылки понимания.
Виды и уровни понимания
Результатом информационно-познавательной деятельности является то или иное изменение в содержании внутреннего мира личности. При этом следует указать, что такое изменение далеко не всегда объективируется в понятиях. Иногда результатом выступает просто возможность продолжать деятельность. Более того, понимание как результат информационнопотребительской деятельности иногда принципиально не выразимо в слове или выразимо с помощью молчания, то есть отказа от формулирования и коммуникации. Но и в том, и в другом случае мы можем рассматривать результат информационно-потребительской деятельности в нескольких ракурсах.
Дж. Миллер полагает, что результативная сторона понимания выражается в двух аспектах: явление включается в смысловую структуру личности ("понятно-непонятно") и понятое соответствует целям коммуникации ("насколько верно понятно"). [15]
В данной классификации верно схвачена нетождественность уровня понятности и степени адекватности понимания. Так, например, если специалист, прочитав книгу, взялся за исследование, опровергающее идеи автора книги, то результат такой коммуникации, с точки зрения автора книги, вряд ли может быть назван эффективным, тогда как с точки зрения специалиста (а может быть и культуры в целом) он достаточно эффективен.
Уровни понимания представляют собой характеристику проникновения субъекта в глубинные структуры понимаемого объекта.
М.М. Бахтин, анализируя проблему понимания, говорит о таких элементарных актах, как:
"1)психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цвета, пространственной формы);
2)узнавание его (как знакомого или незнакомого). Понимание его (общего) повторимого значения в языке;
3)понимание его значения в данном контексте (ближайшем и более далеком);
4)активно-диалогическое понимание (спор-согласие). Включение в диалогический контекст. Оценочный момент в понимании и степень его глубины и универсальности". [16]
А.У. Хараш полагает, что имеется шесть уровней анализа сообщения.
-
I. Низкий уровень - нулевой: не состоялся сам факт приема сообщения (не расслышал, не рассмотрел, принял за что-нибудь другое).
-
II. Следующий уровень - анализ канала. Реципиент узнает о факте наличия образов и на этом останавливается.
-
III. Процесс понимания начинается с анализа операций. Распознание речи на незнакомом языке. Понимание "интонации", экспрессивного плана речи.
-
IV. На уровне намерения распознаются значения слов и словосочетаний. Их интерпретация.
-
V. Проанализировав деятельность коммуникатора до уровня желаний, реципиент узнает, какие цели им преследуются, какова функция данного коммуникативного акта.
-
VI. Анализ "представлений" коммуникатора обнажает дно информационного ящика и реципиент получает доступ к образам, закодированным в сообщении. [17]
По мнению А.У. Хараша, реципиент прекращает анализ сообщения в той его точке, где у него появляется "презумпция ясности", т.е. предположение, что проделанный им анализ достаточен для адекватного понимания.
Экспрессивный реципиент прекращает анализ, как только ему удалось уловить эмоциональное состояние коммуникатора. Что касается намерений, желаний, представлений коммуникатора, то экспрессивная личность идентифицирует их со своими собственными. Экспресссивное эмоциональное восприятие сопровождается высоким уровнем убеждаемости.
Второй тип реципиента проявляет повышенную чувствительность к целям коммуникатора, полагая их противоположным своим собственным. Стремясь самоутвердиться в этом мире, такой реципиент негативно относится к убеждающей информации. Анализ текста ведет до выяснения целей коммуникатора.
Между этими типами реципиентов есть промежуточный, для которого характерно ограничение уровня понимания намерениями коммуникатора.
Для реципиентов всех этих групп характерна ориентация на коммуникатора, его престиж, социальный статус, внешность, пол и т.д.
Самую совершенную категорию реципиентов составляют те, кто ориентирован на само сообщение.
Осуществленный С.С. Гусевым и Г.Л. Тульчинским анализ различных точек зрения на проблему понимания позволил им сформулировать концепцию, согласно которой представляется возможным говорить о трех основных уровнях понимания:
-
- фиксации материальной формы знака (его идентификации и узнавании);
-
- выявлении его социального значения;
-
- формулировании его личностного смысла, то есть оценочного отношения и переживания. [18]
Говоря об уровнях понимания, следует предостеречь от отождествления таких характеристик понимания как глубина и адекватность. Можно "пройти" по всем уровням понимания до самого нижнего и на всех уровнях иметь неадекватное понимание. Поэтому, помимо уровня глубины погружения в текст или явление, необходимо ввести шкалу уровня адекватности понимания (в смысле соответствия содержательной модели, возникшей в сознании реципиента после прочтения текста модели, заложенной в текст его создателем). С этой точки зрения можно выделить три основных вида понимания: адекватное, иллюзорное, абсурдное.
В ходе восприятия и переработки информации читатель, зритель, слушатель, вне зависимости от характера своей деятельности и уровня своей подготовки, пользуется набором сходных операциональных процедур, применение которых позволяет ему с большей или меньшей глубиной и адекватностью понять адресованный ему текст. Основными из этих процедур являются символизация и десимволизация, креативное продуцирование, интерпретация. [19]
Сутью процедуры десимволизации является переход от языковых символов, используемых в тексте, к реальным объектам, обозначаемым этим символами. Эта процедура может быть очень простой (когда, например, надо десимволизировать понятие "снег" и очень сложной, если в качестве десимволизируемого понятия выступает "демократия" и т.п.). Процедура символизации обеспечивает свертывание "длинных" описаний реальной действительности в одно понятие, в символ.
Процедура креативного конструирования связана с порождением, приращением новых значений и смыслов, которых не было (по крайней мере явно) в воспринимаемом тексте. В ходе креативного конструирования возможны как едва заметные изменения получаемого содержания, так и полностью отличное от оригинала прочтение.
Интерпретация представляет собой процедуру приписывания смысла и значения отдельным элементам знаковой системы или системы деятельности, а также элементам материально-предметной сферы человеческой деятельности.
Интерпретация отличается от процедуры креативного конструирования тем, что в ходе конструирования создаются исходные смыслы и смыслообразующие структуры, а также выделяются и фиксируются соответствующие значения, в то время как в ходе интерпретации интерпретируемым феноменам приписываются смыслы и значения, заимствованные из ранее созданного фонда.
В зависимости от роли этих процедур и типа взаимодействия между ними можно выделить три принципиально различных вида понимания: 1) креативное понимание, 2) интерпретационное понимание, 3) креативно -интерпретационное понимание. В основе первого вида лежит процедура выявления новых значений и новых смыслов понимаемого объекта и конструирование нового символа (образование логических и грамматических структур, адекватно передающих ход и содержание мысли). В основе второго вида понимания лежит, как уже указывалось, процедура случайного приписывания смысла и значения отдельным элементам знаковой системы. Третий вид понимания - креативно-итерпретационный - синтезирует в себе особенности двух предыдущих. В процессе такого понимания субъект пользуется процедурой интерпретации и - когда они не срабатывают -процедуры креации.
Совокупность всех этих процедур, используемых в ходе информационно-потребительской деятельности (на разных ее этапах) может быть обозначена понятием "способ информационно-потребительской деятельности". Говоря о способе информационно-потребительской деятельности, мы имеем в виду относительно устойчивую по составу, относительно замкнутую и более или менее стабильную в определенных временных границах систему правил, стандартов, норм и ценностей, принятых членами данного социума и понимаемых ими более или менее однозначно как руководство для интеллектуальной и практической деятельности, социально значимой для данного сообщества. [20]
Назвав систему этих правил и стандартов "рациональностью", А.И. Ракитов подчеркивает, что в каждом развитом обществе существует сложная, иерархически построенная система рациональностей. Разумеется, в развитом этносе, в сложном социальном организме существует общая для данной культуры рациональность, признаваемая и принимаемая в той или иной степени всеми членами общества, включая и некоторые маргинальные группы, но наряду с общей рациональностью могут существовать, конкурировать, конфликтовать или дополнять друг друга различные кастовые, социально-групповые, профессиональные и т.д. рациональности.
Разумеется, в той или иной степени все они должны отражать наличную природную и социальную реальность, но делают они это по-разному, трансформируя ее в различные наборы ценностей, норм, стандартов и правил деятельности, которыми руководствуются представители данного социума, считающие нерациональным все то, что не соответствует принимаемой ими рациональности.
Таким образом, степень понятности или непонятности текста зависит от меры совпадения рациональности понимающего с рациональностью создателя текста. Поэтому подлинное понимание всегда связано с немалыми усилиями по реконструкции той рациональности, в рамках которой создан понимаемый текст. Разумеется, все понять, вовсе не значит все простить. Можно понять рациональность тех или иных действий и поступков и, тем не менее, быть с ними решительно несогласным. Но плохо, когда несогласие с какими-то элементами чуждой рациональности, закрывает дорогу к пониманию.
Но и сама рациональность не является неким вневременным образованием. Через множество опосредующих звеньев она связана с господствующим способом деятельности. Именно поэтому полное взаимопонимание возможно лишь при условии определенного совпадения в способе деятельности тех, кто воплощает этот смысл в знаки или в мир овеществленного знания (технику и т.п.) и тех, кто производит дешифровку этого смысла. "Условием понимания является известная общность или сходство (подобие) в деятельности существ, обменивающихся информацией (смыслами)". [21]
Заключение
Таким образом, подводя некоторые итоги анализа особенностей восприятия и понимания медиатекстов, можно констатировать, что этот процесс выступает в качестве средства деятельностного и коммуникативного самоопределения человека в различных сферах его жизнедеятельности. Предметное содержание этого процесса заключается в присвоении индивидом через текст различных человеческих способностей. В качестве мотивационной основы информационно-потребительской деятельности выступает интерес, продуцируемый системой потребностей индивида, который и придает потреблению информации личностный смысл.
Смыслообразующий мотив определяет содержание задач, решаемых индивидом в процессе потребления информации. Такие задачи, в конечном счете, направлены на овладение способами деятельности в конкретных жизненных ситуациях, что предполагает, в свою очередь, выявление, содержательный анализ и обобщение сведений, предлагаемых текстами массовой информации. Достижение указанных целей обеспечивается за счет выполнения системы действий, среди которых особое место принадлежит мысленному воспроизведению определенных конкретных ситуаций, восстанавливаемых на основе их текстового описания.
Обеспечивая воспроизведение в индивиде исторически сформировавшихся человеческих способностей, информационно -потребительская деятельность, тем самым, представляется одним из важнейших механизмов развития индивида как общественного человека, как л и ч н о с т и.
Выбор формы активности в потреблении информации, доставляемой по каналам массовой коммуникации, определяется уровнем объективной необходимости в постоянном самоопределении личности в важных для нее сферах взаимодействия с другими людьми. Если такой необходимости в оперативном самоопределении нет, то и потребности в восприятии информации из каналов массовой коммуникации тоже нет (исключая случай упоминавшийся выше ритуальной потребности).
Сформированная информационно-потребительская деятельность в сфере массовой коммуникации опирается на интерес к оперативной информации, содержащей способы деятельности и поведения в различных конкретных жизненных ситуациях. Опора на этот интерес и должна выступить в качестве одного из основных средств повышения эффективности средств массовой информации.
При личностно положительном, заинтересованном отношении к процессу потребления информации, который обеспечивает желаемое самоизменение индивида, этот процесс выступает как его особенное общественное отношение, а система действий, реализующая это отношение, приобретает форму его особенной информационно-потребительской деятельности, то есть форму личностно окрашенного, саморазвивающегося присвоения через тексты определенных человеческих способностей.
Отсутствие указанной потребности, актуализирующей ее ситуации или адекватной общественной оценки, лишает поиск информации какого -либо личностного смысла. В лучшем случае информационно-потребительская деятельность превращается в цепочку действий, выполняемых по заданным образцам. В этом случае индивид выступает не как личность, суверенный субъект информационно-потребительской деятельности, а как объект информационного воздействия. Его активность приобретает, как указывалось, форму реактивного, регулируемого внешними воздействиями, потребления предлагаемой информации.
Из изложенного следует вывод о том, что одним из важнейших резервов повышения эффективности функционирования средств массовой информации является сближение предметного содержания передаваемой информации с глубинными интересами потребителей информации, что придает информационно-потребительской деятельности личностный смысл. Это, в общем-то, не новое утверждение имеет некоторые малозамечаемые аспекты. Речь идет не только о том, что средства массовой информации должны тщательно изучать систему потребностей и интересов своей аудитории. Одновременно следует поставить задачу последовательного формирования у самых широких кругов населения устойчивого интереса к оперативному самоопределению в профессионально и социально важных сферах их жизнедеятельности, что возможно только в условиях усиления содержательной связи между потреблением информации из каналов массовой коммуникации и другими формами жизнедеятельности людей.
Список литературы Восприятие и понимание медиатекстов в системе коммуникативной компетентности личности
- Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973, с. 126.
- Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966, с. 40. См.: напр. П. Линдсей, Д. Норман. Переработка информации человеком. М., 1974.
- Любимов А. НЛП: структура коммуникаций. http://www.center-nlp.ru/library/s55/nlp/struktura.html?current_book_page=all
- работы Дридзе Т.М., Неволина И.Ф., Фомичевой И.Д. и др. Понимание как философско-методологическая проблема. Вопросы философии, 1986, N 7, с. 72.
- Автономова Н.С. Понимание, разум, метафора. Вопросы философии. 1986, N 7, с. 80.
- Понимание как философско-методологическая проблема. Вопросы философии, 1986, N 7, с. 72.
- Брудный А.А. Понимание как компонент психологии чтения. -В кн.: Проблемы социологии и психологии чтения. -М., 1975, с. 162.
- Понимание как философско-методическая проблема. Вопросы философии. 1986, N 7, с. 72.
- Понимание как философско-методическая проблема. Вопросы философии. 1986, N 7, с. 70.
- Щедровицкий Г.П. О строении атрибутного знания. Сообщение 1. -"Доклады АПН РСФСР", 1958, N 1, с. 31.
- Черняк В.С. О смысле понимания и понимании смысла. Вопросы философии. 1986, N 8, с. 60.
- Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук. -В кн.: Эстетика словесного творчества. М.: 1979, с. 361.
- Миллер Дж.А. Психолингвисты. -В кн.: Теория речевой деятельности. М.: 1986, с. 266.
- Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук. -В кн.: Эстетика словесного творчества. М.: 1979, с. 363.
- Хараш А.У. Уровневая организация сообщения, его понятность и убедительность. -В кн.: Семиотика СМК. М.: 1972, с. 120.
- Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии. -М.: 1985, с. 149.
- Ракитов А.И. Диалектика процесса понимания. Вопросы философии, 1985, N 12, с. 69. 20.
- Понимание как философско-методологическая проблема. Вопросы философии, 1986, N 7, с. 71. 21.
- Баркер Р., Эскарпи Р. Жажда чтения. -М., 1979, с. 139-140.