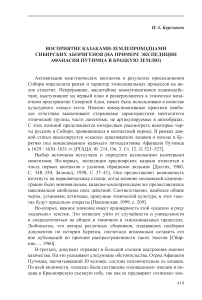Восприятие казаками-землепроходцами сибирских аборигенов (на примере экспедиции Афанасия Путимца в Брацкую землю)
Автор: Березиков Н.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521563
IDR: 14521563
Текст статьи Восприятие казаками-землепроходцами сибирских аборигенов (на примере экспедиции Афанасия Путимца в Брацкую землю)
В-третьих, документ отражает в большой степени настроения именно казачества. На это указывают следующие обстоятельства. Отряд Афанасия Путимца, насчитывавший 30 человек, состоял исключительно из казаков. По всей видимости, «скаска» была составлена «площадным» писцом и подана в Красноярскую съезжую избу, так как ее предваряет «отписка» вое- воды с обычной для таких случаев формулой «И я холоп твой тое их челобитную послал к тебе к государю... к Москве под сею отпискою» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 12. Л. 520]. Разные «почерки» воеводской «отписки» и казачьей «скаски» подкрепляет этот вывод. «Площадные» писцы отличались более демократичным социальным составом, чем подьячие из воеводских приказных изб, были менее подвержены унифицирующему влиянию официальных формулировок, их контакты с челобитчиками были менее формализованы, – а потому в рукописях, выходивших из-под их пера, больше оставалось от речей челобитчиков.
Коллективная «скаска» казаков открывается обращением к имени царя. Служба государю выступает как символ и маркер, намечающий контуры казачьего отряда как целого. Чувство «мы» реализуется в исполнении воли правителя его холопами: «По твоему государеву указу велено нам холопем твоим...». В обозначении группы через систему маркеров государева служба была главным компонентом, по которому проходила ментальная разграничительная полоса с «другими». «Веленье» царя заключалось в том, чтобы «отправитца из Красноярсково острогу по Енисею реке на непослушных брацких людей» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 12. Л. 521.]. Негатив ная инаковость, которая изначально придавалась образу бурят (возможно, эти казаки даже не сталкивались с ними прежде), обуславливалась их непокорностью русскому государю.
Территориальная экспансия способствует «сгущению» поля этно-географических образов. Конфигурация образов Сибири в «скасках» и «отписках» первопроходцев представляется чрезвычайно многоликой. Встречаются десятки определений и разновидностей ландшафтных зон, несколько десятков обозначений народов по их хозяйственной деятельности, внешнему облику, воинским обычаям, поведенческим статусам по отношению к царю. Последнее было одним из главных адаптирующих механизмов, ментальных фильтров коллективного землепроходца в процессе межкультурных коммуникаций. Слова-маркеры, использованные при описании аборигенов, делили последних на ясачных и неясачных «инозем-цов». Неясачные, в свою очередь, делились на «немирных» и «мирных». «Немирные» именовались «неприятельскими» («непокорны и непослушны»). Ясачные — на «добрых», «послушных», дающих ясак, и легко конвертировавшихся в «ослушников», как только «почали быть непослушны и государев ясак почали давать несполна» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 227. Л. 85.]. Посл е днее всегда жестко определялось как поведенческие девиации.
В целом пространственное зрение коллективного землепроходца не рассматривало Сибирь как пустой мир. Однако образу «мертвой полосы» более всего уподоблялись территории «неясачных иноземцов» (в особенности немирных) как лиминальные, переходные, пограничные зоны, стыки. Кливаж территорий, таким образом, проходил по линии главного маркирующего элемента – царя. Бытие «неясачных немирных» аборигенов, 420
безусловно, не отрицалось, но до тех пор, пока они не совершат переход в категорию ясачных, они рассматривались как часть нечеловеческого мира. Например, только к этой категории «иноземцов» применялась формула «...и мы холопи твои, прося у бога милости, с теми твоими государевыми неприятелями дрались...». Контакт с ними (даже битва) возможен только после очищения-благословения от бога. Вообще эта территория полна «скверны» и противостоит «чистоте» государевой земли. «А ходили мы холопи твои на твою государеву службу, всякую нужу, голод и наготу терпели, и помирали голодною смертию, и души свои осквернили, всякую гадину и медведину ели» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 12. Л. 522.].
Принадлежность к «неясачным немирным» аборигенам представляла собой апеллятивный фактор к применению насилия и агрессии, включая грабеж и взятия ясыря. «И оне брацкие люди твоего государеву ясаку нам холопем твоим не дали и учали по нам холопем твоим из стрел стрелять (по нам — холопам великого государя! – прим. Н. А.)... И мы холопи твои... тех брацких людей и непослушников побили и в полон взяли».
Принцип структурированного пространства был тесно сопряжен с обложением ясаком местных жителей, которые были непосредственными носителями ценности территории для государевой казны. Но если земля воспринималась через людей (особенно тех, которых нужно подчинить), это означало, что это чужая земля. Таким образом, русские заведомо оценивали эту землю как принадлежащую кому-то иному. Следовательно, установки на освоение земли не было. «Землицы» остаются у аборигенов, которые должны на них добывать «мягкую рухлядь».
Казак – это «землепроходец идущий», человек действия. Мир для него познается, осваивается и описывается через динамическую, функциональную и исключительно самоориентированную характеристику. «По твоему государеву указу велено нам холопем твоим отправитца из Красноярско-во острогу по Енисею реке... И мы холопи твои шли от тое устья Оки речки сорок дней и нашли мы холопи твои твоих неприятельских и непослушных брацких людей... И после тово вышли мы холопи твои к Оке реке и пошли вверх по Ангаре реке и шли лехкими стругами десять дней и нашли твоих государевых неприятельских непослушников брацких же людей... А ходили мы холопи твои на твою государеву службу, всякую нужу, голод и наготу терпели...» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 12. Л. 521-522]. Как видно, все это накладывается на схему преодоления и неосвоенности. Описание географии превращается в нарратив географического экстрима.
Путь, фиксируемый не в верстах, а в днях пути, – это традиционный кочевнический способ измерения расстояний. Это возврат к неким очень архаичным константам, когда пространство неотделимо от времени и описывается через движение. Для кочевника важен путь. Но как состояние он значения не имеет. В описании этого пути делается акцент на «вершинах», реперных точках. Важна исходная и финальная точка – все остальное стирается, расцениваясь как нулевая длительность.