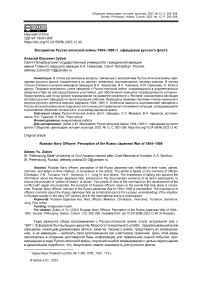Восприятие Русско-японской войны 1904-1905 гг. офицерами русского флота
Автор: Зубов А.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с восприятием Русско-японской войны офицерами русского флота, отраженные в их записях, дневниках, воспоминаниях, письмах родным. В основу статьи положено изучение мемуаров офицеров В.Н. Черкасова, Я.К. Туманова, В.И. Семенова, Н. Юнга и других. Показана значимость учета сведений о Русско-японской войне, сохранившихся в документальных свидетельствах ее непосредственных участников, для обеспечения принципа «справедливости истории». Представлены две точки зрения командования на развитие конфликта с Японией, рассмотрена эволюция взглядов русских офицеров на происходившие события. Приведены примеры героизма членов командного корпуса русского флота в военной кампании 1904-1905 гг. Отмечена важность воспоминаний офицеров о Русско-японской войне как исторического источника для правильного понимания ситуации, складывавшейся в российском обществе начала XX в. и на международной арене.
Русско-японская война, флот, офицеры, с.о. макаров, в.н. черкасов, воспоминания, я.к. туманов, н. юнг, порт-артур
Короткий адрес: https://sciup.org/149144316
IDR: 149144316 | УДК: 94“1904/1905” | DOI: 10.24158/fik.2023.12.40
Текст научной статьи Восприятие Русско-японской войны 1904-1905 гг. офицерами русского флота
Тема важности сбора воспоминаний о Русско-японской войне стала актуальной уже с 1907 г. В феврале был выпущен циркуляр Морского Генерального штаба1, предписывавший всем офицерам, имеющим дневниковые записи, заметки, письма о войне, представить их командованию, а не имеющим – написать свои воспоминания как участников сражений. Цель этой меры заключалась в создании достоверной базы информации для правильной оценки событий, произошедших в ходе Русско-японской войны, изучения ошибок командования с целью недопущения в дальнейшем подобного, что, безусловно, имело значимость для русского флота.
Кроме выпущенного циркуляра и печати его в газетах, была осуществлена рассылка писем офицерам на специальных бланках, которые им предлагалось просто заполнить. В целом было отправлено около 600 писем офицерам армии и флота, ответ пришел от 76 человек, 38 из них делились впечатлениями о сдаче Порт-Артура. Следует отметить, что не все офицеры хотели распространять свои воспоминания, делая их достоянием общественности, так как считали их записями личного характера.
В настоящее время собранные Исторической комиссией Генштаба документы и воспоминания боевых офицеров хранятся в фонде 763 Российского государственного архива военноморского флота. Воспоминания офицеров В.Н. Черкасова, Я.К. Туманова, В.И. Семенова, В.С. Кравченко, Н. Юнга и других легли в основу этой статьи. Их ценность заключается не только в изложении исторических событий от первого лица, но и в демонстрации восприятия офицерами русско-японской войны, отраженного в дневниковых заметках, письмах родным и близким.
Теоретико-методологической основой исследования стали научные статьи, записки участников Цусимского сражения и сражения за Порт-Артур, воспоминания офицеров русского флота, их письма к родным и близким.
Историография Русско-японской войны традиционно включает три периода: дореволюционный, советский и постсоветский. Источники первого из них, использованные при написании работы, представлены следующими документами: «Санитарным отчетом по флоту за Русско-японскую войну 1904–1905 гг.» (1915 г.)1, «Записной книжкой штабного офицера во время Русско-японской войны» (1907)2 Я. Гамильтона, «Письмами к русской нации» (1908)3 М.О. Меньшикова, воспоминаниями В.И. Семенова «Бой при Цусиме: Памяти “Суворова” (1910)4 и др. Советский период источниковой базы представлен письмами генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии генерал-майора М.В. Алексеева к своей жене – А.Н. Алексеевой5 и книгой «Порт-Артур. Воспоминания участников» (1955)6. Особый интерес представляет «Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки»7, в котором представлены биографии офицеров – участников Русско-японской войны 1904–1905 гг. Из научных работ постсоветского периода следует отметить работу В.А. Холодова «Русско-японская война 1904–1905 гг. в восприятии солдат и матросов», в которой приводится анализ состояния боевого духа русских офицеров и матросов в период войны (Холодов, 2014).
В исследовании Э.А. Воробьевой «Русско-японская война 1904–1905 гг. и общественное мнение Сибири и Дальнего Востока (по материалам ведущих местных периодических изданий)» (2009)8 четко прослеживается мысль о том, что итогом войны стало перенесение «образа врага» с Японии и японцев на российское самодержавие.
Актуальность настоящей работы связана с анализом источников личного происхождения (воспоминания, письма, дневники) для понимания восприятия Русско-японской войны 1904– 1905 гг. офицерами русского флота, что дает возможность детализировать ход исторических событий, связанных как с самой войной, так и с ее последствиями для Российской империи.
Объектом исследования в работе являются события Русско-японской войны, нашедшие свое отражение в мемуарных записях ее участников.
Предмет исследования – эгоисточники (письма, дневники, воспоминания) офицеров русского флота в исследуемый период.
Использование антропологического подхода, контент- и микроанализа позволило выстроить картину психологического восприятия офицерами русского флота этой войны, а также проследить эволюцию их отношения к конфликту с Японией, начиная от непоколебимой веры в победу и заканчивая горечью разочарования. Специфика использованных в работе источников, в частности, писем и дневниковых записей, заключается в их личном и доверительном характере, обусловленном адресацией близким людям, что дает возможность дать историческую оценку происходящим событиям через личностное восприятие их участников в его непосредственном проявлении.
Новизной исследования является его проведение на стыке истории, имагологии, психологических и социологических аспектов.
Комплекс мемуаристики, связанный с войной, достаточно обширен, поэтому для написания статьи была произведена выборка материалов, направленная на то, чтобы репрезентировать взгляды на русско-японский конфликт представителей различных социальных групп. Так, были проанализированы документы авторства британского военного агента при японской армии, генерал-лейтенанта Я. Гамильтона, генерала М.В. Алексеева, публициста М.О. Меньшикова, новоиспеченного офицера Я.К. Туманова и командиров с большим опытом Н. Юнга и В. Черкасова, морского врача В. Кравченко.
На протяжении всей российской истории войны оказывали влияние на «трансформацию массового сознания, формирование как временных, так и весьма устойчивых социально-психологических, социокультурных и идеологических категорий и стереотипов» (Сенявский, Сеняв-ская, 2006: 55). Не стала исключением в этом плане и Русско-японская война 1904–1905 гг. С того самого момента, как Япония стала наращивать свой военный потенциал на Дальнем Востоке, стало понятно, что конфликт с ней неизбежен. Ни русским офицерам, ни солдатам не были понятны цели этой войны. В российском обществе и армии ее считали ненужной, бесполезной. Высшей командный состав не пользовался авторитетом среди подчиненных и был не готов к военным действиям. Генерал А.Н. Куропаткин, командующий сухопутными войсками, был слишком уж осторожным, следуя своему кредо «Не рисковать!», он панически боялся поражения. Медлительность в действиях высшего армейского руководства негативно сказалась на ходе войны. В своем дневнике генерал Я. Гамильтон отмечал: «Если бы русский Скобелев мог появиться на театре войны – блестящий, быстрый, смелый, обожаемый своими войсками …»1.
Совершение смелого поступка было редкостью для русского командования. Исключением стал генерал Р.И. Кондратенко, на протяжении десяти месяцев возглавлявший оборону Порт-Артура, а также вице-адмирал С.О. Макаров, но, к сожалению, последний недолго руководил российским флотом. Один из участников войны, описал, какую радость испытали матросы, увидев адмирала Макарова: «Своими выходами в море он поднял дух наших моряков, приунывших от первых неудач»2.
Как на флоте, так и в сухопутных войсках с каждым днём росло непонимание солдатами и матросами причин и целей этой войны. Офицеры находились в аналогичной ситуации. Все это отражалось на настроении русской армии, которая была напрочь лишена атакующего энтузиазма. Хотя офицеры и солдаты демонстрировали примеры бесстрашия, мужества и героизма, но неумелое руководство действиями войск со стороны высшего командования неумолимо вело кампанию к провалу. Отсутствовал чёткий план военных действий, флот оказался не готов сражаться на Востоке страны.
Офицеры до конца верили, что русско-японская война была бы выиграна, если бы она продолжалась и далее, они были возмущены подписанием Портсмутского мира и тем, что кровь, пролитая русскими солдатами, оказалась напрасной.
У японцев не было выраженного превосходства в кораблях или живой силе, но их боевой дух оказался гораздо выше российского. Генерал-майор М.В. Алексеев писал своей жене: «Приподнят у них дух… Но победа должна быть нашим уделом, если б в наше дело было внесено побольше веры, решимости, духа, предприимчивости»3.
Известный публицист М.О. Меньшиков отмечал: «Пусть разбито тело русского флота, но осталась непобедимой его душа»4. И это проявилось в действиях всех офицеров, участвовавших в войне с Японией.
Офицер Я.К. Туманов, к тому времени только окончивший Морской корпус, был назначен на «эскадренный броненосец “Орел”, на котором совершил знаменитый переход 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала З.П. Рождественского, закончившийся Цусимским сражением»5. События этого периода он подробно описал в своих воспоминаниях. Из его дневника можно узнать, что же происходило в это время на броненосце «Орёл»: он пишет о том, как проводились боевые занятия, как была дана боевая тревога, о том, что солдат, матросов и офицеров готовили к проведению настоящего боя; отмечает, что ему, как и другим офицерам, не совсем были понятны приказы адмирала Рождественского, но, как подчинённые, они не могли их обсуждать или им препятствовать.
Когда Я.К. Туманов командовал шестью орудиями на броненосце «Орёл», ему было всего 20 лет. Он видел взрывы японских снарядов, названных моряками нашего флота «чемоданами» за их разрушительную силу, но не понимал, что ему делать: «Приостановить стрельбу, выжидая более благоприятных обстоятельств, такая мысль пришла мне в голову, но я ее мгновенно от-бросил»1, так как не мог обречь своих боевых товарищей на бездействие в условиях боя.
Врач крейсера «Аврора» Владимир Кравченко также описал в своих воспоминаниях события при Цусиме, самое трагическое из них – это гибель броненосца «Ослябля», на котором находилось 900 членов экипажа, из которых не уцелел ни один. «Мы были бессильны помочь своим товарищам… Что творилось в душе у каждого в эти мгновения, никто не передаст словами»2.
Все русские офицеры переживали как личные те неудачи, которые терпел российский флот. Они ясно понимали неспособность командования к правильному руководству, но ничего не могли сделать. Их мужество и героизм проявилось во многих событиях Русско-японской войны, но ярче всего в Цусимском сражении.
Офицер Владимир Семёнов командовал отделом штаба второй эскадры Тихоокеанского флота. В своих воспоминаниях он пишет: «корабль “Князь Суворов” открыл огонь, на корабле катастрофические разрушения… но даже при такой обстановке команда проявляла чудеса храб-рости»3. Боевое судно отказались покидать лейтенанты М.А. Богданов, П.А. Вырубов, прапорщик В.И. фон Курсель, которые до «последнего вели бой из единственного уцелевшего орудия и героически погибли вместе с броненосцем»4.
Николай Юнг 21 год служил офицером, в плавании провел не менее 10 лет. В Цусимском сражении он был ранен и скончался на борту корабля 16 мая 1905 г. Но сохранились его письма, по которым мы можем понять отношение русского офицера к той войне: он пишет о сложностях обеспечения корабля углём, потому что его помещалось в трюмах мало и судно часто вынуждено был возвращаться на берег для пополнения запасов; о том, что конца войны не видно, что это очень тяжёлое время для России, и он, как русский офицер, переживает всей душой за каждое поражение страны; о том, что офицеры флота надеялись, что на суше дела поправятся, но там тоже неудачи следовали одна за другой. Его мнение о войне прямо выражено в одном из писем: «Давно надо было бы заключить мир с Японией, не дожидаясь разбития армии, всё равно компания проиграна, но условия мира были бы более лёгкими … Россию ввергли в пучину несчастий»5.
Особое внимание следует обратить на воспоминания старшего артиллерийского офицера броненосца «Пересвет» В.Н. Черкасова, так как он обладал большим боевым опытом, был знаком с правилами ведения боя на море, что позволило ему достаточно правдиво представить в своих воспоминаниях события Русско-японской войны с позиций боевого офицера и сделать свои выводы о причинах, приведших к гибели русского флота в этой неудачной для России кампании.
Василий Нилович Черкасов происходил из семьи флотского офицера, получил опыт на Балтике, его первый бой с японской эскадрой состоялся 27 января 1904 г., когда он был старшим артиллеристом броненосца «Севастополь». Описывая события 10 июня 1904 г., он пишет, что нашу эскадру составляли 10 броненосцев и 10 миноносцев, у японцев было 14 крейсеров, среди них 8 броненосцев и 25 миноносцев – соотношение сил было явно не в пользу русского флота. Далее В.Н. Черкасов разбирает просчеты, допущенные командованием: «В нашем маневре была сделана одна крупная ошибка, когда мы, желая вернуться в Артур, повернули последовательно вправо, и таким образом броненосцы быстро удалились от неприятеля, заставив легкие крейсера еще долго идти параллельным курсом с противником»6.
В своих воспоминаниях он также приводит свою докладную записку по событиям 10–11 июня 1904 г. с внесением своих предложений, которые так и не были приняты командованием флота, рассуждает о тактике ведения морского боя и ее применении в событиях Русско-японской войны.
Воспоминания морских офицеров о войне связаны не только со сражениями – они содержат описания личных качеств их боевых товарищей. Так, Н.В. Иенеш дает характеристику офицеру А.П. Меллеру и его вкладу в события войны: «Его личный метод позволил ему безошибочно попадать в цель со второго выстрела и без таблиц, чем он изумлял неоднократно как сухопутных, так и морских артиллерийских офицеров»1.
Надо сказать, что восприятие войны в российском социуме того времени вообще было сложным. В формировании общественного сознания большую роль сыграла пресса. Газеты и журналы рисовали на своих страницах образ врага в лице Японии, который хочет господствовать в Азии, укрепив свои позиции в этом регионе за счет России. Вначале война представлялась общественности как победная и героическая, а все неудачи – как явление временное, незначительное либо как целенаправленная стратегия со скрытой мотивацией командования, как спланированный маневр. Все это соответствовало чаяниям российского общества, которое хотело видеть войну победоносной.
По мере затягивания кампании патриотический пыл постепенно угасал, война показала своё настоящее лицо – жестокость и кровь, голод и неустроенность, страдание и страх. Гибель офицеров русской армии и российского флота, сдача Порт-Артура стали настоящим шоком для общества империи, после которого оно долго не могло оправиться (Докучаева, 2014).
Война достаточно быстро превратилась из героической в позорную и проигранную2. Победный миф был развеян напрочь. Разочарование и боль в результате событий на Дальнем Востоке обострили и без того непростую ситуацию в российском обществе, накалив ее до предела. Русско-японская война – одна из ключевых точек в отечественной истории, когда фокус врага России сместился с Японии на русское самодержавие, что привело к первой русской революции (Гладкая, 2008).
Анализируя личные воспоминания русских офицеров, в эволюции их отношения к войне с Японией можно выделить несколько этапов:
-
1) ура-патриотизм, негодование на врага, желание его быстро разгромить;
-
2) после первых неудач иллюзии остаются, вера в Победу русского флота сохраняется, но масштаб поражений оказался слишком значительным, чтобы его было возможно игнорировать;
-
3) состояние шока после падения Порт-Артура, очевидность поражения и неспособности высшего командования к руководству войсками.
Офицеры честно выполняли свой долг, требующий проявления доблести и сохранения чести на полях сражений, но это не помогло России выиграть войну. Многие из ее величайших патриотов пали в Русско-японской войне. Так, героически погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» адмирал С.О. Макаров, был смертельно ранен начальник броненосца «Пересвет» А.В. Салтанов, «адмирал В.К. Витгерт, командовавший 1-й Тихоокеанской эскадрой, погиб на флагманском броненосце “Цесаревич”»3. Современники говорили о последнем как о честнейшем, благороднейшем человеке, которому полностью доверял адмирал Е.И. Алексеев, но в военном деле В.К. Витгерт был очень упрямым, должен был предусмотреть, но не предусмотрел гибель «Варяга» и «Корейца».
Многие командиры и офицеры были тяжело ранены в бою, среди них – командир броненосца «Пересвет» В.А. Бойсман, старший офицер «Ангары» Б.В. Зайончковский, о чем пишет в своих воспоминаниях морской офицер В.Н. Черкасов4.
За мужество и героизм многие офицеры русского флота были награждены орденами св. Анны, св. Владимира, св. Георгия, св. Станислава разных степеней. Так, за участие в боевых действиях вахтенный офицер броненосца «Пересвет» Н.Л. Максимов награжден 5 орденами, стольких же удостоились артиллерийский офицер М.И. Никольский, минный офицер миноносца «Бесшумный» Е.В. Сухомлин и многие другие. За участие в обороне Порт-Артура командир миноносца «Властный» В.А. Карцов был награжден 4 орденами. Таким же количеством орденов были отмечены начальник крейсера «Баян», флаг-офицер А.М. Романов, флаг-офицер штаба А.В. Стеценко, начальник миноносца «Властный», а впоследствии артиллерийский офицер броненосца «Пересвет» В.Н. Черкасов. Тремя орденами были награждены офицеры флота П.А. Во-робъев, В.П. Дудоров, Н.В. Кротков, В.Д. Яковлев и другие офицеры. Командир миноносца «Сильный» Е.И. Криницкий, флаг-офицер штаба П.Ф. Келлер, командир миноносца «Внушительный» М.С. Подушкин, морской офицер Б.В. Тягин, офицер броненосца «Победа» Б.А. Флейшер были отмечены двумя орденами.
Морской офицер П.Н. Губонин служил мичманом на крейсере «Варяг», участвовал в знаменитом сражении при Чемульпо, получил осколочное ранение, однако не покинул свое место, а остался у боевого орудия. Доктор Н.И. Андриевский называл Петра Губонина «первым в списке примеров мужества среди раненых на “Варяге”»1. Он был награжден Орденом св. Георгия 4 степени.
Многие из офицеров флота после окончания Русско-японской войны продолжили боевую службу, были награждены серебряными медалями «В память Русско-японской войны».
Таким образом, рассмотрев воспоминания, письма участников событий военной кампании 1904–1905 гг., мы исследовали процесс изменения сознания русских офицеров российского флота, связанный с трансформацией их отношения к военному конфликту с Японией, раскрыто также восприятие этих событий в общественном сознании империи. Проведенная работа позволила сделать ряд выводов:
-
– война повлияла на самоидентификацию офицерского корпуса, предоставила российским военным возможность проявить свою гражданскую и социальную позицию. В их воспоминаниях, письмах и заметках четко прослеживаются две позиции: стремление к прекращению войны после падения Порт-Артура и признание необходимости дальнейшего продолжения боевых действий войны для избежания заключения мирного договора на невыгодных для России условиях;
-
– война дала возможность проявить офицерам свои лучшие качества, такие как мужество и героизм, любовь к своей Родине;
-
– исследованные письма, мемуары, воспоминания являются важнейшими историческими источниками, позволяющими не только создать правдивую, «справедливую» картину разворачивавшихся военных действий, оценить их с точки зрения боевых офицеров, но и увидеть душевные переживания их участников, что также имеет значение для формирования исторической памяти о военной истории России начала XX в.
В целом, следует сказать, что проведенная работа обогащает представление о Русско-японской войне с точки зрения ее репрезентации в сознании российского общества и непосредственных участников конфликта, позволяет дополнить картину исторической реальности субъективными деталями, способствующими созданию полноты информации о ней.
Список литературы Восприятие Русско-японской войны 1904-1905 гг. офицерами русского флота
- Гладкая Е.А. Русско-японская война в сознании широких слоев населения России в начале XX в. // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2008. № 3 (145). С. 68-73. EDN: JTAXYJ
- Докучаева Ю.И. "Историческая справедливость" в восприятии участников Русско-японской войны // Ярославский педагогический вестник. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Т. 1, № 4. С. 57-60. EDN: TFXQLP
- Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Историческая имагология и проблема формирования "образа врага" (на материалах российской истории XX в.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2006. № 2 (6). С. 54-72. EDN: ILAFEL
- Холодов В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. в восприятии солдат и матросов // Ученые записки Орловского государственного университета. 2014. № 1 (57). С. 32-36.