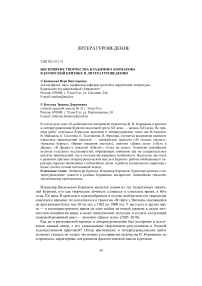Восприятие творчества Владимира Корнакова в бурятской критике и литературоведении
Автор: Башкеева Вера Викторовна, Батуева Эржена Доржиевна
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет об особенностях восприятия творчества В. В. Корнакова в критике и литературоведении Бурятии последней трети XX века - начала ХХI века. На примере работ отдельных бурятских критиков и литературоведов, таких как И. Аюшеев, В. Найдаков, К. Соктоева, Е. Тыхешкина, И. Фролова, изучается восприятие наиболее известных произведений писателя - эвенкийской трилогии («В гольцах светает»,«Красные березы», «Время опадания листьев»), дилогии «Дикое поле» («Путь в Дауры», «В Даурах»), повестей «Шатун», «След на земле». Отмечено своеобразие подхода отдельных исследователей, обращающих внимание как на содержательные аспекты произведений, так и на сюжетно-жанровые особенности. Выделены два этапа в развитии критико-литературоведческой мысли в Бурятии: работы обобщающего характера, нередко написанные к юбилейным датам, и работы специального характера с более узкой и точной постановкой задачи.
Литература бурятии, владимир корнаков, бурятская критика и ли- тературоведение, повести и романы корнакова, восприятие, эвенкийская трилогия, экологическая проблематика
Короткий адрес: https://sciup.org/148316533
IDR: 148316533 | УДК: 821.512.31
Текст научной статьи Восприятие творчества Владимира Корнакова в бурятской критике и литературоведении
Владимир Васильевич Корнаков является одним из тех талантливых писателей Бурятии, кто как творческая личность сложился в советское время, в 60-е годы ХХ века. И ярче всего в разнообразном и подчас необъятном его творчестве советского времени это воплотилось в трилогии «В тайге у Витима», писавшейся на протяжении более чем 20-ти лет, с 1962 по 1988 год. У него есть и другая черта — в постперестроечное время он смог выйти на новый уровень в своем личностном восприятии мира, в своих писательских подходах и создать следующий знаковый романный цикл — дилогию «Дикое поле» (2005–2010).
Как же в региональной критике и литературоведении был воспринят и истолкован данный автор, с его уникальными творческими результатами и богатой художественной практикой? Обзор критических и литературоведческих работ позволит увидеть не только эволюцию в восприятии творчества В. Корнакова, но и процессы, характерные для развития филологической мысли в регионе.
Критические публикации касаются прежде всего указанных романов, а также наиболее известных его повестей, хотя наследие В. Корнакова существенно объемнее и в жанровом отношении разнообразнее1. Едва ли не раньше всех начала анализировать повести В. Корнакова критик Е. Тыхешкина. В достаточно интересной статье 1975 г. о повести «Шатун» автор констатирует наличие важной темы советской литературы данного десятилетия — темы «человек и природа». «Шатун» — одно из тех произведений, которыми литература Бурятии поворачивается к сложным темам сегодняшней жизни народа» [7, с. 132]. Причем важно не только то, что своеобразными антагонистами признаются дед и внук, что лежит на поверхности. Важно то, что дед Савва живет в родной тайге, своими ногами обошел все доступные ему таежные тропы, потому Шатун, а внук Илья — горожанин, с трудом привыкающий к новой для него природной форме жизни. Намечен своеобразный конфликт города и деревни, цивилизации и природы. Важно и то, какое у героя мировоззрение, о чем неявно, но говорит автор статьи. Дед — носитель традиционной мудрости, целостного, отчасти мифологического мышления, а учитель-внук — современный рационалист, почти сухой технарь, воспринимающий, например, позванивание листьев берез как обычный теплообмен в природе. Отмечается, что противопоставлены два рода знания: «из живой природы выведенное, жизненное и чисто теоретическое, книжное» [7, с. 132].
Выделяется автором и еще одна проблема — «освобождение от шаблонных, стандартных представлений о мире», характерное для современного молодого человека. Подобное понимание в бурятском литературном процессе 70-х годов современного героя ново, нешаблонно, глкбоко. Чаще экологическая проблематика связывалась с нравственными, а не с гносеологическими вопросами.
Приблизительно в это же время начинает обращаться к творчеству В. Корнакова исследователь К. Соктоева. Она автор нескольких публикаций — начиная с 1976 г. и завершая 2010 г, — вносящих серьезный вклад в понимание особенностей произведений писателя. В анализе повестей «Шатун», «След на земле» она выносит на первый план нравственно-экологическую проблематику: «Что оставит после себя человек грядущему поколению»? [4, c. 120]. Контраст Саввы Лукича Багулова, оставившего о себе память как о знатоке тайги, мудреце, помогавшем геологам, и Цырен-Еши, прожившего жизнь для себя, очевиден и поучителен для внука Багулова.
К. Соктоева уделяет достаточное внимание романному творчеству В. Корнакова. В анализе романов итоговой является ее статья «Герой и время в творчестве В. Корнакова» (2010), написанная к 80-летию писателя, в которой речь идет и о самых известных романах, и о повестях. В восприятии эвенкийской трилогии для автора важна революционная идея преобразования общества, но акценты относительно разных романов трилогии разные. В романе «В гольцах светает» выделена темы дружбы народов, т.с. культуртрегерской миссии русского народа, в том числе пролетариата, рабочих, по отношению к эвенкам, которые, конечно же, воспринимаются как культура-реципиент. В анализе романа «Красные березы» на первый план выдвигается идея широты охвата исторических событий, ориентированная, по мысли исследователя, на романные традиции Л.Толстого. Широта исторических сопоставлений соотносится с активностью лирического и драматического начал в романе. Драматизм дает о себе знать, в частности, в драматичности противоречий в душе героев, столкновении резкого, страстного, категорического характера Петра Гориулова со сложной реальностью жизни. Нравственный ракурс в описании героя проявляется в том, что герой, испытав много трудностей, постепенно приходит к более верным способам строительства новой жизни.
В описании первого романа поздней дилогии «Дикое поле» главным исследователь считает религиозные вопросы, речь даже идет о том, что писатель человек верующий. Все это воплощено, во-первых, в богатстве исторических, теологических источников, изученных писателем, во-вторых, в акцентах в изображении образа протопопа Аввакума. «Писателя волнует вопрос: какими тайными силами владеет этот легендарный человек..., каковы его внутренний мир, его религиозные устремления, мысли и чувства?» [6, с. 192]. В качестве главного исследователь выделяет одного персонажа, тем самым заостряет одну линию в романе.
Ранее К. Соктоева уже обращалась к роману В. Корнакова «Дикое поле» и тогда ставила акцент на том, что это исторический роман, основанный на подлинных событиях, происходивших в Прибайкалье и Забайкалье с реальными историческими деятелями: воеводой А.Ф. Пашковым, Е.П. Хабаровым, сотником П. Бекетовым, опальным протопопом Аввакумом, — посвященный многострадальным судьбам различных племен и народов края.
Протопопу Аввакуму как центральному образу романа уделяется особое внимание. Автор постоянно подчеркивает, что Аввакум — активный борец за старую веру, акцентирует его мятежный дух, самоотверженную борьбу за правду. «В. Корнаков создает объемный художественный образ Аввакума, выдающейся для всего православия личности» [5, с. 433].
Отдельную работу «Завершение трилогии» (1989) посвятил романному творчеству В. Корнакова, а именно роману «Время опадания листьев» литературовед В. Найдаков. Он отмечает мастерство, уверенную руку вполне сложившегося писателя и, объективность подхода, реалистичность, связанную с отсутствием приукрашивания, лакирования жизни военных лет. И все же задается вопросом, суть которого такова — а надо ли было опять писать на тему, которая была раскрыта не раз. И сам же констатирует, что надо было, ведь неоспоримым аргументом становится сам роман, который «читается с неослабевающим интересом» [3, с. 3].
В. Найдаков показывает, что в последнем романе трилогии завершаются некоторые важные сюжетные линии предыдущих романов, а началом, объединяющим их, своеобразным сюжетным стержнем завершающего романа становится «детективно-приключенческая линия» [3, с. 3]. Она связана с «разоблачением и ликвидацией бывших активных врагов Советской власти, ставших теперь бандитами, но еще не утративших надежд на падение советской власти <…> и стремящихся воспользоваться золотом, добытым рабочими прииска» [3, с. 3]. Лите- ратуровед выделяет сюжетное начало, что позволяет обратить внимание на важные аспекты художественной формы.
В этом же году И. Аюшеевым к 60-летнему юбилею В. Корнакова была написана небезынтересная статья «Витим — судьба и доля народная» (1989). Для нее характерна оригинальность взгляда в сравнении с традиционным литературоведением при, правда, некоторой лексической невнятности. Автором справедливо отмечено, что главным жанром в творчестве молодого В. Корнакова сразу стал роман, и это было вызвано масштабной художественной задачей, которую ставил перед собой писатель: «Картины жизни малочисленного, своеобразного северного народа, его труда… требовали и соответствующей формы» [1, с. 86]. Не случайно другой талантливый писатель того времени, друг В. Корнакова — И. К. Калашников также начинает с жанра романа [2, с. 35].
Большое внимание обращается также на признаваемую всеми исследователями социальную направленность романа с его борьбой двух непримиримых лагерей — простого народа и «бывших хозяев Витимской тайги». Именно в этом свете показана судьба Аюра Наливаева, который поднимается с уровня социальных бедняцких инстинктов до понимания классового самосознания; Петра Гориуло-ва, стиль руководства которого был максималистским, недемократичным, он проходит свой путь ошибок и драм; Клима Наливаева с его цельным характером человека уже нового общества, хотя он «обыкновенный человек, живущий в необыкновенное время».
Более того, критик видит, что социальная «борьба определяет идейное и сюжетное развитие романа» [1, с. 87]. Рассматриваются отдельные элементы сюжета, который в целом должен увлечь читателя «волшебной тайной рассказа». Тайна эта, возможно, в естественности повествования, «развивающегося как бы собственной потенциальной силой» [1, с. 87].
И. Аюшеев отмечает и другие особенности стиля романа, когда «автор избегает усложненного психологического письма», стремится найти прежде всего «главную черту внутренней жизни героя, передать ведущий эмоциональный тон» [1, с. 86]. Причиной такого скупого психологического рисования критик правомерно считает то, что автор привлекает внимание читателя к действиям героев.
Вышеупомянутые авторы чаще давали суммарное описание отдельного романа или всего творчества В. Корнакова, публикации нередко были привязаны к юбилейным датам. Новый подход к романам писателя связан с сужением и одновременным заострением какой-то одной проблемы в художественном мире писателя. Этим отличаются статьи такого автора, писавшего о В. Корнакове, как И. Фролова. В работах 2008, 2011 гг. она рассматривает только одну проблему, в данном случае вопрос о концептах в романах писателя.
Выбранные в романе «Путь в Дауры» концепты — вера и долг — позволяют сделать анализ более целенаправленным, определенным и в то же время системным. В ситуации рубежа ХХ — ХХI веков В. Корнаков, как и другие бурятские писатели, находится в поиске новых «идеологических, нравственно-этических ориентиров» [8, с. 69]. И данные концепты и становятся подобными ориентирами. Утверждение концепта веры ведет к пониманию значимости для В. Корнакова христианской религии, которая имела определяющее значение «в складывании ценностно-духовного своеобразия русского национального характера» [8, с. 69]. На примере образа протопопа Аввакума, его отношений с други- 52
ми персонажами раскрывается главное в концепте веры. «Вера толкуется как спасительная нить, ведущая человека от земной жизни к небесной, человек оказывается таким образом включенным во всемирную историю спасения, на пути к которому он должен позаботиться о спасении своей вечной души» [8, с. 71].
Концепт долга, также позволяющий понять русский национальный характер, связан больше с другими персонажами — с казаками, в частности с образом атамана Афанасия Пашкова. Казаки чувствуют долг перед государством, перед родиной, отсюда связь долга с политическими, идеологическими, гражданскими уровнями «космоса национального сознания» [8, с. 74]. Из чувства долга, по мысли Пашкова, проистекают другие ценностные концепты — «совесть и честь, сила духа и способность действия» [8, с. 75]. Таким образом концепт долга помогает понять истоки действий казаков, особенности сюжетных перипетий второй важной содержательной части романа.
Движение к другому формату литературоведческих работ — примета нового этапа в региональном литературном процессе, который одновременно позволяет глубже понять творчество бурятского писателя.
Список литературы Восприятие творчества Владимира Корнакова в бурятской критике и литературоведении
- Аюшеев И. Витим - судьба и доля народная: Творчество прозаика В.В. Корнаков // Байкал. 1989. № 6. C. 85-89.
- Башкеева В. В. Исай Калашников. Литературная биография. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1917. 138 с.
- Найдаков В. Завершение трилогии // Правда Бурятии. 26 февр. 1989. С. 3.
- Соктоева К. След на земле: Произведения писателя Бурятии В. Корнакова // Байкал. 1976. № 6. С. 118-121.
- Соктоева К. Б. Судьба и деяния Аввакума в романе В. Корнакова «Дикое поле» // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи. 2007. С. 431-434.
- Соктоева К. Б. Герой и время в творчестве В. Корнакова // Вершины. 2010. № 3. С. 183-195.
- Тыхешкина Е. Две жизни // Байкал. 1976, № 1. С. 131-133.
- Фролова И.В. Концепт вера и долг в романе В. Корнакова «Дикое поле»// Концепты в литературе Бурятии транзитивного периода: [монография]. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2011. Вып. 4. С. 68-76.