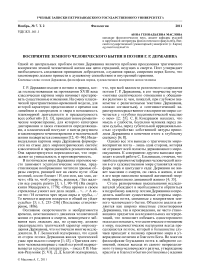Восприятие земного человеческого бытия в поэзии Г. Р. Державина
Автор: Маслова Анна Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (120) т.2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Поэзия державина, философская лирика, художественное восприятие жизни человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14750016
IDR: 14750016
Текст статьи Восприятие земного человеческого бытия в поэзии Г. Р. Державина
Г. Р. Державин входит в поэзию в период, когда господствовавшая на протяжении XVIII века классическая картина мира начинает претерпевать существенные изменения. На смену классической пространственно-временной модели, для которой характерно представление о времени как линейном и однородном и «вера в возможность планомерной деятельности и предсказуемость всех событий» [13; 13], приходит новое романтическое мировоззрение, для которого категории дисгармонии и хаоса становятся определяющими, а классический постулат о всегда разумном и закономерном течении времени и человеческой жизни подвергается сомнению [12; 43–96]. Индивидуальная картина мира Державина формируется на стыке двух мировоззренческих систем: классической и зарождающейся романтической. Она характеризуется переходностью, что определяет ее уникальность и противоречивость.
В поэтическом мире Державина огромное место занимают эсхатологические мотивы, представляющие воображению читателя зримые образы смерти, разящей все на своем пути: «Как молнией, косою блещет / И дни мои, как злак, сечет»; «На то, чтоб умереть, родимся, / Без жалости все смерть разит» [3; т. 1, 90–91] (На смерть князя Мещерского, 1779); «Река времен в своем стремленье уносит все дела людей… <…> А если что / И остается чрез звуки лиры и трубы, – / То вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы» [3; т. 3, 235–236] (Последнее стихотворение, 1816).
Осознание скоротечности и необратимости времени, неостановимого движения человеческой жизни от рождения к смерти, неминуемого забвения всех людских дел, по существу, должно предопределять трагический характер мироощущения Державина, что и отмечали многие исследователи. В . Г. Белинский подчеркивал, что одной из сторон поэзии Державина явился трагический ужас при мысли о смерти [1; 43]. «Трагедия личного человека впервые с такой остротой вырисовывается в русской литературе», – писал Р. В. Иванов-Разумник [5; VI]. Д. Д. Благой подчеркивал, что, при всей важности религиозного содержания поэзии Г. Р. Державина, в его творчестве звучат «мотивы скептического отношения к обещаниям религии» (с чем, пожалуй, при глубоком знакомстве с религиозными текстами Державина, сложно согласиться), а «оптимистический характер непосредственного восприятия мира» сочетается с «глубоко пессимистической мыслью о нем» [2; 55]. С. Н. Кондрашов находил, что мысль о слабости, бессилии человека перед лицом судьбы, перед губительной иррациональностью «устройства» собственной натуры приводила Державина в конечном итоге к глубокому скепсису [6; 8].
Однако все эти выводы о трагичности мировосприятия поэта – лишь одна сторона, которая не отражает всей полноты державинского мироощущения. К совершенно другим выводам приходит в своей работе С. Ельницкая, отмечая, что наиболее яркими метафорами человеческой жизни в его художественном мире становятся метафоры пира и цветущего сада: Державин не живет мыслями о смерти, он «весь в жизни, и все в его мире наполнено мощной жизненной энергией, переполнено динамикой жизни» [4; 35].
Столь разноречивые высказывания исследователей убеждают в необходимости обратиться к подробному анализу поэзии Державина и определить наиболее существенные стороны мировоззрения поэта, связанные с восприятием земного человеческого бытия. Объектом анализа являются как широко известные стихотворения Державина, так и произведения, не часто становящиеся предметом исследовательских интерпретаций, что позволяет избежать одностороннего подхода и показать, что скептическое отношение к миру, пессимистические настроения всегда преодолеваются поэтом, который в большинстве случаев приходит к полному принятию мира и утверждению величия и благости Бога. Во многом философские блуждания поэта в лабиринте сомнений, поиски выхода из самого непреодолимого тупика человеческого разума, утверждение красоты и благости бытия соотносимы с идеями немецкого мыслителя Г. В. Лейбница. В академическом издании сочинений Державина, предпринятом Я. К. Гротом, имени немецкого философа нигде не упоминается. Можно сделать вывод, что в державинских бумагах, заметках и письмах также нет никаких указаний на его непосредственное знакомство с трудами Г. В. Лейбница. Однако нельзя однозначно утверждать, что Державин, увлекавшийся немецкой поэзией и культурой и читавший немецкие тексты в оригинале, не был знаком с идеями немецкого мыслителя. В то же время можно говорить и о типологическом сходстве мировоззренческих систем представителей русской и немецкой культуры.
В поэзии Державина человеческая жизнь нередко соотносится с образами водной стихии, что является традиционной мифопоэтической аллегорией. Образ человека, плывущего по морю жизни, возникает в стихотворении «К первому соседу» (1780). Бурное море, ежеминутно грозящее пловцу смертью, противопоставляется картине мирной и полной наслаждений жизни соседа, безмятежно мечтающего о вечном благополучии и блаженстве. Он не думает о том, что «редкому пловцу случится / Безбедно плавать средь морей», где «бурны дышут непогоды, / Горам подобно гонят воды / И с пеною песок мутят…» [3; т. 1, 105]. Доля смертного человека – неизбежность старости, которой уже недоступна любовь красавиц, и непостоянство фортуны. Напоминания о старости, о грозящих несчастьях закономерно должны вести к мысли о бессилии человека перед судьбой и, следовательно, к мрачным пессимистическим выводам об обреченности на страдания и смерть. Как замечает Н. И. Николаев, «тут был бы совершенно оправдан вывод о бессмысленности поисков счастья и веселья в мире, призыв отвернуться от бренных, суетных утех» [10; 135]. Однако итог размышлений поэта иной. Так же, как и в оде «На смерть князя Мещерского», завершающейся призывом использовать каждый миг земной жизни как дар небес, в стихотворении «К первому соседу» поэт обращается к адресату с таким же оптимистическим предложением: «Пей, ешь и веселись, сосед! / На свете жить нам время срочно; / Веселье то лишь непорочно, Раскаянья за коим нет» [3; т. 1, 106].
Философскими размышлениями о жизни человека проникнуты многие произведения Державина. Как правило, выделяется два типа восприятия земной человеческой жизни. С одной стороны, суета, изменчивость, непредсказуемость, страх смерти, с другой – осмысленность, умеренность, спокойное ожидание смерти, воспринимаемой лишь как переход в бессмертие. В поэзии Державина представлены оба мировосприятия.
Жизнь как бессмысленное движение от рождения к смерти ассоциируется с образом водопада, падающего стремглав в бездну вечности. Ярким образом земного бытия является образ масленичных гуляний – карнавального мира перевернутых ценностей. Так представлен современный мир в стихотворении «На счастье» (1789) – мир, в котором властвует случай, раздающий блага и отбирающий их без всякой «ведомой» причины.
Непредсказуемость и изменчивость – яркие характеристики карнавального мира, предугадать игру случая невозможно. Предопределять, кому улыбнется незаслуженное счастье и на кого упадет цепь несчастий, – бессмысленное занятие. В таком мире человек затерян, его положение, как справедливо замечает Т. Д. Красюк, «равнозначно положению песчинки в мире, где истинной свободой и властью наделены не отдельные человеческие личности, но господствуют надличностные силы» [7; 37].
В еще большей степени зависимость человека и земной жизни от прихотей высших сил показана в стихотворении «Фонарь» (1804), написанном Державиным в связи с внезапной отставкой. По мысли А. А. Левицкого, Державин в этом произведении не просто выразил горечь по поводу неожиданной отставки и поставил вопрос о непостоянстве – суете мира, но и отразил мысль об отсутствии справедливости в мироздании [8; 138]. Действительно, мелькающие в оптическом приборе картины призваны показать, что на земле человеку нередко грозят смерть и страдания, что управляет этой жизнью «царь, иль маг какой, волхв непостижный», забавляясь и веселясь при виде происходящих по его воле ужасных событий, разрушающих красоту и гармонию мира. Однако вопреки ожидаемым выводам об отсутствии справедливости в мироздании, что увидел в стихотворении А. А. Левицкий, поэт приходит к заключению, что окружающий мир прекрасен. Он призывает «зодчему тому дивиться, / Кто создал столь прекрасный мир» [3; т. 2, 471] и не стремиться за блеском обманчивой мечты, тем более что сам земной мир – своеобразная реализация мечты Творца: «сей мир – мечты; их Бог Творец» [3; т. 2, 471]. Что на самом деле хотел показать этим стихотворением поэт: передать «пафос трагедии поэта», сомневающегося «в возможности гармонии воли Бога и устремлений человека, поскольку человек, в конце концов, воистину является рабом любых прихотей Бога» [8; 138], или выразить мысль о необходимости смирения человека перед Богом? Второе утверждение подтверждается комментарием Державина, где он подчеркивает, что поводом к сочинению «Фонаря» было «оптическое зрелище и смена автора с поста министра юстиции», а «для того, чтоб равнодушно это переносить и положиться во всем на волю Вышняго, написал он в собственное утешение сию пьесу, в которой смеялся над суетой мира» [3; т. 9, 258]. В целом, согласно объяснениям самого поэта, все стихотворение следует воспринимать как сатириче- ское изображение «суеты» мира, под которой Державин понимает необоснованные и дерзновенные мечты человека вечно пребывать в состоянии счастливого блаженства, но в земном мире нет ничего вечного, все подвержено изменениям. В поэзии Державина можно найти немало цитат, иллюстрирующих эту мысль, например: «Подите счастьи, прочь возможны, / Вы все пременны здесь и ложны…» [3; т. 1, 94] (На смерть князя Мещерского, 1779); «Сей свет – училище терпеть» [3; т. 1, 360] (На взятие Измаила, 1790). И в то же время подчеркивается, что окружающий человека мир прекрасен, и красота эта дана Богом, который вовсе не является равнодушным свидетелем людских бед, а приходит на помощь страждущему. Эта позиция проявляется, например, в знаменитом послании «Евгению. Жизнь Званская», где автор выражает свое отношение к идее суетности и тщетности всего преходящего следующим образом: «Все суета сует! – я, воздыхая, мню; / Но, бросив взор на блеск светила полудневна, – / О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю? / Творцом содержится все-ленна…» [3; т. 2, 637].
Отношение русского поэта к проблеме восприятия трагической стороны земной жизни во многом соотносимо с основными постулатами «Теодицеи» Г. В. Лейбница. Немецкий ученый подчеркивает, что есть «два знаменитых лабиринта, в которых очень часто блуждает наш разум», и один из них, наиболее существенный для повседневной жизни человека и запутывающий весь человеческий род, «связан с великим вопросом о свободе и необходимости, преимущественно же о происхождении и начале зла» [9; 53]. Делая предметом своих размышлений вопрос о человеческой беде и Божьей справедливости, Г. В. Лейбниц утверждает, что только несовершенство человеческого разума не позволяет человеку понять, что живет он в самом лучшем из миров, потому что мир этот находится «под управлением благого Господа» [9; 55]. Отвергая одно за другим метафизические построения теологов и философов, вносящих сомнение в мысль о благости Творца, Лейбниц оправдывает Бога, допускающего зло в мире из принципа целесообразности, подчеркивая, что Бог сам никогда не совершает зла, основание божественной воли можно найти только во благе, и «благодаря бесконечной мудрости Всемогущего в соединении с его неизмеримой благостью не могло быть создано ничего лучшего (если принять во внимание все), чем то, что было создано Богом», следовательно, «надлежит любить Бога больше всего и всецело на него полагаться» [9; 475–476].
Как можно убедиться, размышления Державина об изменчивой и непредсказуемой жизни, в которой перемешаны добро и зло, – лишь одна сторона философского мироощущения поэта. Найти свое место в этом полном обманчивых надежд земном мире и обрести гармонию со своим внутренним «я» – к этому стремится поэт и к этому он призывает своих друзей и читателей. Именно эта позиция, по нашему мнению, ближе его мировосприятию, а не трагическое ощущение роковой обреченности человека, соотносимого с ничтожной песчинкой.
Величие человека, осознавшего свою зависимость от Бога Отца и принимающего эту зависимость как благо, ведущее к соединению с Богом и бессмертию, утверждается в оде Державина «Бог». Человек, ощущающий Бога внутри своей души, не ничтожен, он – частица целой вселенной, необходимое звено в «цепи существ», «связь миров повсюду сущих» [3; т. 1, 201]. Подобное высокое предназначение предопределяет основную цель земной человеческой жизни – возвышаться к Богу: «Но если славословить должно, / То слабым смертным невозможно / Тебя ничем иным почтить, / Как им к Тебе лишь возвышаться, / В безмерной разности теряться / И благодарны слезы лить» [3; т. 1, 203].
Открытие в себе божественного начала не позволяет человеку разрушать данное ему изначально единение с Богом, определяет необходимость идти путем добра и правды, заботиться о сохранении «внутреннего человека», то есть душевного покоя, незапятнанной совести, гармонии с внешним и внутренним миром. Следует отметить, что на протяжении жизни Державина взгляды поэта на средства и пути обретения своего места в мире подвергались изменениям, но нравственные ценности, на которые ориентировался поэт изначально, оставались незыблемыми.
Переломным периодом в мироощущении Державина принято считать середину 1790-х годов, когда поэт отказывается от «громкой» лиры и переходит к изображению частной жизни и красоты в разнообразных ее проявлениях. В 1770–80-е годы Державин был сторонником идеи общественного служения, идеалом для него являлись вельможи и полководцы, заботящиеся о зависимых от их воли людях, отстаивающие принципы добра и справедливости. В то же время поэт не считал, что облеченные властью государственные деятели должны отказывать себе в простых человеческих удовольствиях. Создавая образы идеальных вельмож и героев («Решемыслу», «Вельможа», «Памятник герою», «Водопад», «К Ско-пихину» и др.), Державин на первый план выдвигает такие качества, как стремление к общей пользе, свершение добрых дел, любовь к правде, великодушие и умеренность в наслаждениях.
Однако, как отмечает С. А. Салова, уже в начале 1790-х годов Державин, потерпевший ряд неудач, пытаясь реализовать принятую им модель поведения ревностного государственного чиновника, строго придерживающегося Закона и борющегося за правду и справедливость, начинает разочаровываться в возможности высо- кого гражданского служения [11; 105]. Уже в стихотворении 1789 года «Философы, пьяный и трезвый», написанном в период бездеятельного пребывания Державина в Петербурге в ожидании решения суда после отставки с должности тамбовского губернатора, показаны две модели поведения. Сам Державин в тот период был сторонником трезвого философа, считающего необходимым стремиться к заслуженным честным трудом на благо Отечества и царя «богатству, славе и чинам». Другой философ считает погоню за богатством, славой и чинами «пустым» занятием, причем эта позиция пьяного не является голословным утверждением, она проверена практикой. Этот философ избирает для себя другую модель поведения, позволяющую сохранить в чистоте свою совесть, жить «здраво и покойно». Он призывает «с друзьями время проводить, / Красот любить, любимым быть / И с ними сладко есть и пить» [3; т. 1, 261]. Показательно, что именно эта модель поведения впоследствии станет приемлемой для самого Державина, точно так же разочаровавшегося в возможности сохранить чистоту души и внутреннюю независимость, оставаясь на придворной службе.
«Жить с нашей совестью в покое» [3; т. 1, 621] – таково основное правило поэта, приверженцем которого он был на протяжении всей своей жизни. Человек, не запятнавший своей совести, спокойно ожидает старости и смерти, для него скоротечность земного бытия не является поводом для душевных страданий. Мысль эта неоднократно повторяется в произведениях Державина. В стихотворении «Четыре возраста» (1805) поэт утверждает, что человек, проведший свою жизнь в ладу со своей совестью, «на запад свой ясный… весело зрит» [3; т. 2, 558]. Мудрый человек, умеющий смирять страсти, «смерть, как гостью, ожидает, крутя задумавшись усы» [3; т. 3, 90].
Таким образом, в мироощущении Державина присутствует осознание трагических сторон земного человеческого бытия, которым человек далеко не всегда может противостоять. Однако сомнения в благости Творца всегда преодолеваются, и осознание непредсказуемости поворотов судьбы не приводит поэта к утверждению бессмысленности человеческой жизни и к пессимистическим выводам о суете всего земного существования. Во многом восприятие жизни человека у Державина соответствует философии Г. В. Лейбница, принимавшего необходимость зла в мире и считавшего неизбежным отсутствие в земном бытии человека абсолютного счастья, так как человек изначально свободен в своем выборе между добром и злом. Цель человеческой жизни, по Державину, – возвышение к Богу, служение идеалам добра и правды, сохранение божественного начала в себе и внутренней гармонии со своей совестью. Такая позиция не приводит поэта к аскетизму, он признает право человека на разумное наслаждение теми удовольствиями жизни, которые даны Богом, главное, чтобы эти удовольствия не были приобретены за счет страданий других людей. Показательно в этом смысле знаменитое житейское правило, сформулированное Державиным в стихотворении «На рождение царицы Гремиславы» (1796): «Живи и жить давай другим, / Но только не за счет другого» [3; т. 1, 729]. Следование принципам добродетели, спокойная совесть, смирение перед невзгодами закономерно должны привести человека к душевному спокойствию и внутренней гармонии.
Список литературы Восприятие земного человеческого бытия в поэзии Г. Р. Державина
- Белинский В. Г. Сочинения Державина//Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1981. С. 7-73.
- Благой Д. Д. Гаврила Романович Державин//Державин Г. Р. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957. С. 5-74.
- Державин Г. Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота: В 9 т. СПб.: Изд-е Академии наук, 1864-1883.
- Ельницкая С. Державинские пиры и русская поэзия//Норвичские симпозиумя по русской литературе и культуре. Т. 4. Гаврила Романович Державин. 1743-1816. Нортфилд, 1995. С. 29-152.
- Иванов-Разумник Р. В. Вступительная статья//Г. Р. Державин. Стихотворения. СПб., 1911. С. V-XXXII.
- Кондрашов С. Н. Одическая лирика Г. Р. Державина 1779-1794 годов (Концепция личности, жанр, ритмическая организация): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1989. 15 с.
- Красюк Т. Д. Преобразование торжественной оды в творчестве Г. Р. Державина («На смерть князя Мещерского» и «На счастие»)//Развитие жанров русской лирики конца XVIII-XIX веков: Межвуз. сб. науч. тр. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1990. С. 25-41.
- Левицкий А. А. Динамика образов в поэзии Державина//Державин и культура казанского края: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 265-летию со дня рождения Г. Р. Державина (г. Лаишево, 26-28 июня 2008 г.). Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. С. 138-145.
- Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1989. 554 с.
- Николаев Н. И. Внутренний мир человека в русском литературном сознании XVIII века. Архангельск: Изд-во По-морского гос. ун-та, 1997. 148 с.
- Салова С. А. Анакреонтические мифы Г. Р. Державина. Уфа: РИО БашГУ, 2005. 126 с.
- Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига: Зинатне, 1988. 454 с.
- Шутая Н. К. Типология художественного времени и пространства в русском романе XVIII-XIX вв.: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2007. 35 с.