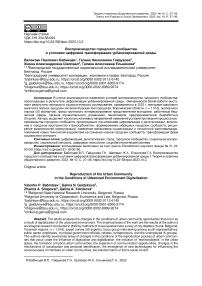Воспроизводство городского сообщества в условиях цифровой трансформации урбанизированной среды
Автор: Бабинцев Валентин Павлович, Гайдукова Галина Николаевна, Шаповал Жанна Александровна, Ельникова Галина Алексеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются изменения условий воспроизводства городского сообщества, происходящие в результате цифровизации урбанизированной среды. Эмпирической базой работы выступили результаты авторского социологического исследования, проведенного в 2022 г. методами массового анкетного опроса городских жителей (Курская, Белгородская, Воронежская области, n = 1 518), экспертного опроса (50 экспертов), фокус-группового интервьюирования представителей молодежи, работников бюджетной сферы, органов муниципального управления, пенсионеров, предпринимателей, безработных (6 групп). Авторы выделяют несколько ключевых направлений изменений условий протекания процесса воспроизводства городских сообществ, происходящих под влиянием цифровизации и дигитализации: включение в городское пространство «техносубъектов», формирование гибридных городских сообществ, расширение возможностей коммуникаций, изменение механизмов социализации и личностной идентификации, появление новых технологий воздействия на сознание членов городских сообществ, трансформация форм социального контроля.
Цифровизация, дигитализация, город, городское сообщество, социальное воспроизводство, социальный контроль, цифровые технологии, социобиотехническая система
Короткий адрес: https://sciup.org/149143924
IDR: 149143924 | УДК: 316.334.56:004 | DOI: 10.24158/tipor.2023.10.2
Текст научной статьи Воспроизводство городского сообщества в условиях цифровой трансформации урбанизированной среды
Развитие современных российских городов в условиях высокой степени социальной неопределенности характеризуется рядом разновекторных и зачастую противоречивых тенденций. Разумеется, они неоднозначно проявляются в пространстве конкретных городских поселений, различающихся по многим критериям: геолокация, масштаб, уровень социально-экономического развития, этнонациональный состав населения, культурные традиции. Однако, несмотря на эти и другие различия, представляется возможным выделить в развитии урбанизированных систем некие общие тренды, определяющиеся, с одной стороны, реализующимися в мире универсальными процессами, с другой – логикой эволюции города как сложной, внутренне структурированной системы. Одним из таких глоболокальных трендов является формирование социобиотехни-ческих систем (СБТ-систем) – систем высокого уровня сложности, возникающих на основе интеграции технико-технологических, биохимических и социальных элементов, функционирование которых определяется метаболическими процессами. Как подчеркивают исследователи, «город – сложная природно-антропогенная техническая территориальная система (урбогео-си-стема), которая является частью ландшафтной структуры территории. Она представляет собой единство природного ландшафта, техногенной составляющей покрова, населения, культурного и исторического наследия» (Топорина и др., 2019: 71).
Поскольку современный город превращается в сложную СБТ-систему, постольку межличностные и межгрупповые связи в нем отличаются все большим разнообразием. Более того, они претерпевают постоянные модификации в условиях высокой социодинамики урбанизированной среды, характеризующейся технологизацией, сетевизацией и – во все более значимых масштабах – цифровизацией и дигитализацией (первую из названных можно определить как постоянно развивающийся комплекс информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), включающих перевод аналоговой информации в цифровую, алгоритмически выстроенную работу с большими массивами данных (bigdata), формирование архитектуры цифровых сетевых платформ, а дигитализацию – как качественные изменения социальной реальности, приобретающей в результате цифровизации дополненный или гибридный характер. Делая такое различие, мы, тем не менее, вынуждены считаться с тем, что в общественно-публичном дискурсе эти понятия обычно используются как взаимозаменяемые. И если в научных работах еще можно сделать акцент на специфике каждого, то для массового сознания она малозначима. На этом уровне традиционно говорят о цифровизации, имея в виду комплекс как технологических, так и социальных изменений, явившихся следствием информационно-коммуникационных модернизаций. Учитывая данное обстоятельство, мы в дальнейшем считаем возможным употреблять оба понятия «в связке», при необходимости делая акцент на том или ином аспекте).
Специфика и перспективы гибридизации городского пространства в значительной мере предопределяются сегодня именно этими процессами, формирующими условия для функционирования городов на новых принципах вовлеченности граждан в решение проблем городской среды, повышения комфортности проживания, внедрения инновационных технологических решений в управление городским развитием, что отмечается как отечественными, так и зарубежными исследователями (см., например: Коршунова, 2018; Соколов, Палатников, 2019; Чернышева, Гизатуллина, 2021; Aina et al., 2023; Marshall, 2023; Zheng et al., 2023).
Дальнейшая гибридизация и конституирование города как СБТ-системы обусловлены не количеством элементов городской среды, а изменением принципа самоорганизации урбопро-странства. Мы полагаем, что им является принцип гомеостаза, заключающийся в том, что город способен формировать и поддерживать программу своего развития с ориентацией на достижение цели. Субъектом, организующим городскую среду и реализующим программу, является городское сообщество – особый тип территориального сообщества, совокупность постоянно проживающих в пределах городской территории людей, которые имеют некоторое количество общих интересов, более или менее активно взаимодействуют в процессе их достижения, разделяя при этом сходные ценности и смыслы и придерживаясь некоторого набора единых норм поведения. Определяя роль таких сообществ в городском развитии, В.Л. Глазычев подчёркивал, что «города нет, пока нет городского сообщества. Пока нет совокупной воли горожан, которая на самом деле реально влияет на все стороны городской жизни. Городское сообщество должно определять, как выглядит город, что с ним происходит и чем город живет»1.
При этом любое городское сообщество представляет собой постоянно развивающийся организм. В конечном итоге это развитие подчинено идее его воспроизводства, заключающегося в простом или расширенном воспроизведении его просоциальных качественных и количественных характеристик2. Последние касаются, прежде всего, демографической составляющей – возобновления численности населения города. Качественные характеристики – это социообразующие свойства города: территориальная обособленность (границы), экономическая градообразующая основа (хозяйство), социальная инфраструктура, городская идентичность (сопричастность месту проживания, населению, общность жизненно важных интересов), способность сообщества к самоорганизации и самоуправлению (Жданов и др., 2020). Как подчеркивает О.А. Кармадонов, «социальное воспроизводство относится к процессам воссоздания самой общественной ткани, того, что делает общество возможным. Это, прежде всего, сам человек, сообщества, в которые он включен, системы общественного устройства, которые он каждый день структурирует, нормы и ценности, которые он разделяет с другими членами общества» (Кармадонов, 2015: 11).
Таким образом, воспроизводство городского сообщества – это многоаспектный процесс, представляющий собой не просто рост численности населения, а непрерывное воссоздание всех основ социального бытия и системы общественных отношений на той или иной территории. При этом, как подчеркивают исследователи, «расширенное социальное воспроизводство характеризуется достижением более высокого уровня развития социальных качеств новых поколений, совершенствованием элементов социальной структуры, улучшением общественных отношений, устранением обнаруживающихся дисфункций социальных институтов» (Кушхова и др., 2015).
В настоящее время цифровизация городской среды оказывает существенное воздействие на воспроизводственные процессы в городских сообществах. В сущности, она создает для них новые условия, но при этом ведет к возникновению нетрадиционных барьеров. Цифровизация встраивается во все процессы городского развития и приводит к трансформации большинства социальных феноменов: процессов, институтов, общностей, так как делает общество более динамичным, изменчивым, «турбулентным», что накладывает свой отпечаток и на процесс воспроизводства городских сообществ.
Целью данной статьи является переосмысление условий воспроизводства городского сообщества в результате изменений его жизненного пространства, инициированных цифровизацией.
Выводы, сформулированные в настоящей статье, опираются на результаты авторского социологического исследования «Социальная консолидация городских сообществ: возможности и ограничения в условиях дигитализации урбанизированной среды», реализованного в 2022 г. методами массового анкетного опроса городских жителей (Курская, Белгородская, Воронежская области, n = 1 518, выборка квотная), экспертного опроса (50 экспертов), фокус-группового интервьюирования (6 групп, общее количество участников – 57 человек) представителей молодежи, работников бюджетной сферы, органов муниципального управления, пенсионеров, предпринимателей (самозанятых), безработных (частично занятых).
На основании проведенного нами теоретического анализа и изучения данных, полученных в ходе эмпирического исследования, можно выделить несколько ключевых направлений изменений условий воспроизводства городских сообществ, происходящих под влиянием цифровизации или дигитализации.
Во-первых, сегодня в городское пространство все более активно включаются новые акторы – «техносубъекты». С. Бескаравайный, один из немногих, кто стал использовать данное понятие, определяет его как «синтетический, искусственный эквивалент индивидуального субъекта» (Беска-равайный, 2018: 54). Соглашаясь с В.И. Игнатьевым, к видовому множеству техносубъектов вполне допустимо отнести «роботов, Интернет вещей, промышленный Интернет, мобильные переносные средства связи с искусственным интеллектом (далее – ИИ), все системы глобального слежения через датчики, образующие глобальный Паноптикум» (Игнатьев, 2021: 135).
Исследователи пытаются осмыслить последствия формирования этой новой категории субъектов, что нашло отражение в социологии вещей, разрабатываемой Б. Латуром и рядом его последователей. Согласно предложенной ими акторно-сетевой теории, в процессе цифровизации возникает новая система социальных связей между человеком и вещами, в которой, наряду с людьми, действуют не-люди (non-humans), выступающие как самостоятельные агенты социальных систем (Латур, 2014).
Формируется так называемая «искусственная социальность», адекватная дополненной или новой социальной реальности. В интерпретации включившей данное понятие в оборот группы исследователей под руководством Т. Мальша, оно определяет коммуникативную сеть, где помимо людей или вместо них действуют агенты искусственного интеллекта (Латур, 2014). В трактовке А.В. Резаева, В.С. Старикова, Н.Д. Трегубова - это «эмпирический факт участия агентов ИИ в социальных взаимодействиях в качестве активных посредников или участников этих взаимодействий» (Резаев и др., 2020: 4). Как отмечает В.И. Игнатьев, «теперь человек уже не единственный хозяин социальной жизни. Рядом с ним родился социальный агент иной природы - искусственной» (Игнатьев, 2022).
Возникновение «искусственной социальности», с одной стороны, открывает новые возможности развития и воспроизводства, с другой - создает нетрадиционные проблемы. Усиление влияния технологического компонента модифицирует ценности субъектов городского пространства, делая их иерархию все более «техноориентированной». Современные цифровые технологии начинают оказывать воздействие на саму биологическую природу акторов городского пространства, что пока недостаточно осмыслено в научных исследованиях во многом потому, что находится на своей ранней стадии.
Во-вторых, под влиянием цифровизации или дигитализации формируются гибридные городские сообщества. Если пользоваться классификацией, предложенной Яном ван Дейком, то «городское сообщество, члены которого используют социальные сети и цифровые технологии для взаимодействия, представляет собой сообщество-онлайн, базой для которого является «органическое» сообщество, существующее офлайн, в котором люди вовлечены в коммуникацию лицом к лицу и совместные дела, а виртуальная часть становится лишь дополнением, расширяющим возможности» (Чернышева, Гизатуллина, 2021: 41). В рамках «гибридного» подхода к изучению городских сообществ происходящее в Интернете рассматривают как «зеркало» офлайн-соседства, а интернет-площадку - как инструмент коммуникации.
Развивая идеи «гибридного» подхода к формированию городских сообществ, Л.А. Чернышева утверждает, что «онлайн-офлайн гибридизация происходит в рамках “киберфланирования” по городу, использования мобильных интерфейсов в геолокационных играх и социальных сетях, создания и потребления цифрового пабликарта и других городских практик» (Чернышева, Гизатуллина, 2021: 41). Вместе с тем роль цифровой инфраструктуры, как подчеркивает исследователь, «в формировании практик городских сообществ не является лишь инструментальной, пассивной», поскольку выступает в данном случае как «медиатор, или посредник, который активно участвует в конструировании действия» (Чернышева, Гизатуллина, 2021: 42).
Понятие гибридности позволяет уйти от строгого разграничения онлайн- и офлайн-практик организации городских сообществ и взамен сфокусироваться на появлении новых черт и особенностей их создания и функционирования, например, таких как деперсонализация и краудсорсинговый принцип формирования. В процессе развития городских сообществ могут возникать ситуации, в которых отношения «человек - человек» дополняются отношениями «человек - деперсонализированная сеть».
Таким образом, цифровые технологии сегодня способствуют утверждению особой формы организации жизни городских сообществ, основанной на гибридизации физического и цифрового, онлайн и офлайн, (не)материального и человеческого. Эти субстанциональные, по своей сути, изменения социальности в перспективе предполагают новые возможности для воспроизводства, определяемые степенью интегрированности традиционных субъектов и техносубъектов.
В-третьих, цифровизация расширяет возможности коммуникаций, выступающих одним из условий социальной консолидации и обеспечения воспроизводства городского сообщества. Исследователи вполне справедливо отмечают в данном отношении, что «в цифровом городе трансформируется само общение людей. Нет необходимости преодолевать физическое пространство для общения и взаимодействия, все происходит в цифровой среде» (Гавриленко, 2022: 146).
Цифровизация трансформирует механизмы взаимодействия и коммуникаций внутри городских сообществ и между ними, а также с органами местного самоуправления, что превращает их «из пассивных объектов городского управления в активные субъекты городской политики, способные влиять на многие решения муниципальной власти» (Соколов, Палатников, 2019: 99).
Выстраивается новая цифровая система городских коммуникаций, гражданских медиа - создаваемых и поддерживаемых горожанами онлайн-площадок (чаты и каналы в мессенджерах, группы и паблики в социальных сетях и др.), которые собирают вокруг себя гибридные формы городских сообществ (онлайн - офлайн). Они «представляют собой реальные площадки формирования самосознания горожан» (Коршунова, 2018: 199), становятся не только средой для их общения, но и средством совместного решения задач, связанных с улучшением качества среды прожи- вания, широкого обсуждения как общегородских проблем, так и вопросов, актуальных для отдельных типов городских сообществ (родительские чаты, чаты автомобилистов и т.д.). На подобных площадках осуществляются акции взаимопомощи, обсуждаются вопросы коллективной безопасности, цен на жилье и качества коммунальных услуг, локальных магазинов и сервисов и т.д.
В контексте обеспечения воспроизводства городского сообщества следует отметить, что помимо возможности обсуждения широкого спектра городских проблем, виртуальные городские сообщества способствуют и росту самоорганизационного потенциала города. «В гражданских медиа возникают цифровые ритуалы и контент, поддерживающий чувство общности», – пишет А.К. Касаткина (Касаткина, 2017).
Высокий потенциал цифровых технологий в объединении горожан, их вовлечении в процессы городского управления, в решение городских проблем подтверждают и результаты массового анкетного опроса населения (n = 1 500) г. Белгорода, Воронежа, Курска, а также фокус-груп-повых интервью, проведенных в рамках социологического исследования «Социальная консолидация городских сообществ: возможности и ограничения в условиях дигитализации урбанизированной среды» коллективом авторов Белгородского государственного национального исследовательского университета в 2022 г. Так, использовали цифровые технологии при решении своих проблем 80 % опрошенных горожан. Основные ситуации, в которых респонденты применяли их – получение медицинских (46,9 %), государственных и муниципальных (46,9 %) услуг; заказ еды, такси, шопинг и т.д. (42,1 %); покупка билетов на автобусы, поезда и иной транспорт (40,2 %); обращение в органы власти (36,7 %); быстрое взаимодействие с соседями с целью решения проблем своего двора, улицы, дома (28,7 %), получение образования (28,6 %). Реже всего цифровые технологии использовались респондентами для сбора средств для нуждающихся (16,1 %) и организации протестных акций, митингов и т.д. (3,4 %). В целом, участники опроса остались довольны своим опытом использования цифровых технологий: 55,3 % оценили его как положительный, еще 27,3 % – «скорее, положительный, чем отрицательный».
В ходе проведения фокус-группового исследования довольно типичными были следующие суждения респондентов:
-
1. Дмитрий (государственный служащий, 25 лет): «У меня есть ощущение, что если будут предприняты попытки договориться лично на улице о решении каких-либо локальных проблем, придворовой территории, например, то шансы договориться гораздо меньше, чем посредством виртуальных форм общения. Я больше скажу, без цифровых технологий невозможно сейчас консолидировать людей».
-
2. Виктория (самозанятая, 37 лет): «Сегодня чтобы собраться людям лично и пообщаться, договориться о чем-то, сначала нужно списаться в социальных сетях, собрать всех там, а потом только где-то в реальной жизни».
Распространение различных цифровых платформ и сервисов, разнообразие социальных сетей и мессенджеров, усиление внимания горожан к онлайн-активности позволяют переосмыслить то, как организуются городские сообщества. А.В. Соколов предполагает, что они «приобретают принципиально новые качества, не свойственные объединениям горожан в традиционном городе. Можно сказать, что под влиянием цифровых коммуникационных технологий XXI в. городские сообщества фактически изменили свою природу – от территориально объединенных групп граждан до высокотехнологически взаимодействующих по сетевому принципу общностей» (Соколов, Палатников, 2019: 99).
В-четвертых, цифровизация задает новое проблемное поле для изучения вопросов социализации и личностной идентификации, представляющих важные «просоциальные» составляющие воспроизводства городского сообщества. Специалисты отмечают: «Несмотря на то, что идентичность, в сущности, “реальный”, а не “виртуальный” феномен, идентификационные процессы сохранения и трансляции ее основ, модифицированные влиянием массовой цифровизации, нашли свое отражение в новом культурно-аксиологическом формате “цифровой идентичности”» (Коровникова, 2021: 24).
В современных условиях цифровизация заметно изменила как форматы межличностного общения и взаимодействия, так и комплекс внутриличностных ценностей, норм, установок. А.В. Конева и А.А. Лисенкова в данном контексте утверждают, что «в поле Интернет человек конструирует и верифицирует свою идентичность, с одной стороны, а с другой – сами цифровые технологии поставляют новые и новые возможности и средства идентификации себя в социальном и виртуальном пространстве» (Конева, Лисенкова, 2019: 15). Виртуализация социального пространства существенно влияет на сознание и мировоззрение людей, особенно молодого поколения, поскольку их социализация всё больше смещается в цифровую среду (см. об этом: Сащенко, 2021: 41).
Можно предположить, что процесс идентификации под влиянием цифровизации и дигитализации приобретает перманентный и динамичный характер, идентификационные границы личности становятся все более гибкими, мобильными, пластичными. В результате этого процесс формирования социальной и территориальной идентичности современного городского жителя осуществляется в сложной гибридной (онлайн – офлайн) среде, где сочетаются как реальные, так и виртуальные социальные взаимодействия.
В-пятых, появляются новые цифровые технологии воздействия на сознание членов городских сообществ, что создает возможности для формирования необходимых культурных, духовых условий социального воспроизводства.
Как отмечают исследователи, расширение инструментария воздействия ИКТ на сознание людей, а также социальные и экономические процессы в границах городов, регионов, стран, обусловлено главным образом развитием искусственного интеллекта (ИИ) и его внедрением в уже традиционные цифровые сервисы для граждан: маркетплейсы, новостные ленты, поисковики, соцсети и др. По оценке М. Федорова и Ю. Линде, ИИ сегодня – «это, по сути, никем толком не регулируемый инструмент (причем чрезвычайно эффективный) геополитического и экономического влияния владельцев цифровых платформ и сервисов, задающих современные потребительские, общественно-политические и социокультурные тренды»1.
В перспективе технологии на базе ИИ дают возможность манипулировать сознанием индивида при принятии решений, и «такой выбор будет восприниматься человеком как исключительно свой, базирующийся на принципе “свободной воли”, а не навязанный со стороны хитрой машины»2. К настоящему времени ИИ применяется для «умной» фильтрации или цензурирования информации в электронных СМИ, соцсетях, агрегаторах новостей, таргетированной рекламе, в целях оказания проактивного воздействия на сознание человека с учетом, с одной стороны, его личных предпочтений, а с другой – интересов владельцев цифровой платформы или государственно-частного партнерства. В качестве известного примера манипулятивного использования ИИ можно привести «деранкинг» нежелательных источников информации и отдельных публикаций в Google и систему рекомендаций на YouTube. Как верно замечает С.И. Платонова, данные платформы «отслеживают сетевые запросы, потребительское поведение пользователей по цифровым следам и впоследствии формируют поведение, спрос, определённую систему ценностей индивидов. Более того, цифровые платформы устанавливают ограничения на то, как пользователь понимает мир и относится к миру» (Платонова, 2022: 83). При этом «большинство людей даже не догадывается, что информация из их аккаунтов используется с целью совершенствования алгоритмов ИИ по воздействию на их же поведенческую модель»3.
В-шестых, цифровые технологии расширяют возможности социального контроля в процессе воспроизводства городского сообщества.
Изучению трансформации форм социального контроля под воздействием цифровизации посвящено сегодня большое количество научных публикаций (см., например: Гавриленко, 2022; Волков, Кондратьев, 2022; Платонова, 2022; Бронников, 2021). Особенно актуализировалась данная тема в период пандемии Covid-19, когда во многих государствах были разработаны цифровые сервисы по контролю за лицами, находящими под карантинными мерами. Для характеристики современной модели социального контроля обществоведы используют также и другие понятия: «панспектрон», «паноптическая модель», «социальный синоптикон», «цифровой паноп-тизм» (Платонова, 2022).
В результате цифровизации основными инстанциями социального контроля наряду с государством, стали электронные СМИ, социальные сети и цифровые платформы, аккумулирующие большие данные о пользователях. Он становится всё более тотальным и гибким. Функции по контролю постепенно переходят к машинам, растет множественность его форм, масштабов и границ, происходит унификация, алгоритмизация и автоматизация процедур. Однако объективность и нейтральность такого контроля – всего лишь иллюзия. Вполне можно согласиться с О.В. Гавриленко, которая отмечает, что «внедрение алгоритмических форм управления, основанных на использовании больших данных, значительно увеличивает масштабы мониторинга населения и смещает “властную” логику на контроль и конструирование мнений, формирование потребностей, побуждение к действиям в соответствии с предписанными нормами поведения» (Гавриленко, 2022: 145). Как верно подчеркивает С.И. Платонова, «контроль осуществляется не только сверху вниз, от власти и социальных институтов, но и снизу вверх, более тонко, незаметно и гибко, как бы подталкивая миллионы пользователей к определённой модели поведения и создавая при этом иллюзию индивидуальной свободы и выбора» (Платонова, 2022).
В современном «умном» городе цифровые технологии социального контроля довольно разнообразны и включают системы видеонаблюдения, видеоаналитики, «умные» камеры и домофоны, распознающие лица, Интернет вещей, акустический контроль. Так, «в Пекине работает 1,15 млн камер видеонаблюдения, в Шанхае – 1 млн, в Лондоне – более 600 тыс., в Дели – 430 тыс., в Шэньчжэне – 400 тыс., в Москве – 193 тыс., в Нью-Йорке – 31 тыс., в Париже – 27 тыс.» (Бронников, 2021: 5).
Данные системы направлены, главным образом, на обеспечение управления городским хозяйством, конструирование безопасного пространства, соблюдение правил дорожного движения, техники пожарной безопасности, расследование преступлений, предупреждение и профилактику девиаций и правонарушений. Так, например, планируется, что в г. Москве к 2030 г. «все камеры, датчики и сенсоры будут объединены в единую сеть, позволяющую одновременно получать, обрабатывать, анализировать и хранить данные с каждой из них. Искусственный интеллект позволит осуществлять поиск лиц и объектов во всем массиве хранимых данных, а также находить и отслеживать их движение по всему городу в режиме онлайн и в текущий момент»1.
Наиболее тотальная версия цифрового социального контроля, или «цифровая диктатура», по определению С.Ю. Волкова и А.С. Кондратьева, существует в Китае (Волков, Кондратьев, 2022). Наряду с единой государственной системой непрерывного видеонаблюдения и анализа перемещений, действий и поведения граждан, персональных данных, системой фильтрации контента в Интернете, управлением безопасностью, информированием о правонарушениях важнейшим элементом китайской цифровой диктатуры является система социального рейтинга или кредита доверия. В качестве эксперимента она была запущена еще в 2010 г. в нескольких крупных городах, а впоследствии охватила всю территорию Поднебесной. Так, к 2020 г. в стране действовало уже 352 «умных города», разрабатывающих собственные локальные системы социального рейтинга (кредита). Они основаны на анализе больших данных, получаемых из самых разнообразных источников, и меняющихся в режиме реального времени, в зависимости от совершаемых человеком социально позитивных и негативных поступков. В итоге горожане категорируются, и «аутсайдеры» лишаются возможности получить кредит или найти хорошую работу.
Известная практика цифрового социального контроля – чипизация людей. Уже есть примеры массовой реализации данной процедуры для сотрудников отдельных компаний и фирм. Например, в 2017 г. 150 работников шведской фирмы «Epicenter» согласились вживить себе под кожу чипы, заменяющие им пропуск в офис, платежные карты, контакты и пароли2.
В качестве примера использования новой цифровой технологии социального контроля в городском пространстве исследователи приводят дроны, которые, по определению О.В. Гавриленко, произвели «революцию взгляда» (Гавриленко, 2022: 147), предоставив возможности постоянного, тотального наблюдения за обширным пространством, а также сбора, записи, архивации, обобщения информации, слияния видеокадров, слежения за индивидом, выявления поведенческих паттернов и девиаций.
Таким образом, стремительно растут перспективные возможности применения цифровых технологий для осуществления контроля и регулирования поведения больших групп людей, а значит, и управления воспроизводственными процессами в социуме. Вместе с тем следует констатировать, что сегодня в социологической науке только делаются первые шаги в осмыслении данных процессов.
Несмотря на определенные новые возможности, которые создают цифровизация и дигитализация в управлении городским пространством, всё же они неоднозначно воздействуют на перспективы обеспечения всего комплекса условий воспроизводства городского сообщества, что проявляется в ряде негативных тенденций, фиксируемых многими исследователями. Так, например, П.С. Селезнев и В.Ш. Сургуладзе отмечают «движение от цифрового оптимизма к цифровому пессимизму» и выявляют 10 негативных тенденций в социуме, обусловленных воздействием цифровых технологий: рост одиночества на фоне высокой активности в соцсетях и кризис института семьи; снижение уровня гуманности и способности к эмпатии; рост проявлений жестокости и агрессии на фоне виртуализации реальности, игровой зависимости; размывание консолидирующих ценностей; утрата цифровым человеком навыков долговременной памяти, являющейся основой аналитического, стратегического мышления; развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей; рост депрессивности населения, числа суицидов в информационно перенасыщенной среде; увеличение социального неравенства, недоверия и конфликтности за счет прекаризации труда, роботизации и финансиализации экономики, размывание коллективной, профессиональной идентичности, социальной солидарности на фоне роста числа фрилансеров; увеличение объемов информационного мусора, спама, снижающего познавательную функцию интернет-пространства (Селезнев, Сургуладзе, 2021). К данному перечню представляется возможным добавить проблемы, связанные с формированием и усугублением цифрового неравенства по различным основаниям, использованием электронных технологий для манипуляций сознанием граждан и общественным мнением, лишающих их субъектности; рост формализации и имитационных практик в общественных процессах и отношениях между людьми; увеличение киберпреступности; риски потери и несанкционированного использования персональных данных.
На эти обстоятельства обращали внимание и участники проведенного нами в 2022 г. исследования. В частности, массовый опрос горожан показал, что суммарно примерно каждый третий респондент (29,1 %) в той или иной мере обеспокоен внедрением цифровых технологий в среду человеческого существования. Респонденты отметили ряд последствий этого процесса, которые, по их мнению, служат основанием для волнений. К ним относятся: увеличение возможности контроля за частной жизнью граждан (29,3 %), угроза создания «цифрового рабства» (23,7 %), снижение уровня защищенности личных данных (22,5 %). Чуть меньше горожан беспокоит нарастание отчуждения между людьми (17,5 %) и усиление зависимости от технологий (15,2 %).
В заключение отметим, что в целом цифровизация и дигитализация формируют принципиально новые условия воспроизводства городских сообществ, которое протекает во всё более вир-туализирующемся гибридном пространстве, где стремительно развиваются роботы, технологии дополненной реальности, искусственного интеллекта, нейросетевые чат-боты (ChatGPT), а соцсети постепенно превращаются в метавселенные. Отныне оно осуществляется в гибридной (дополненной) реальности, и в процессе этого воспроизводства традиционные критерии оценки его результатов в перспективе, вероятно, будут заменяться на новые, а физические – виртуальными.
Список литературы Воспроизводство городского сообщества в условиях цифровой трансформации урбанизированной среды
- Бескаравайный С. Бытие техники и сингулярность. М., 2018. 476 с.
- Бронников И.А. Панспектрон: государственный, медиакорпоративный, общественный? // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2021. № 4. С. 3–13. https://doi.org/10.24412/2071-6141-2021-4-3-13.
- Волков С.Ю., Кондратьев А.С. Формирование цифровой диктатуры как актуальная общественно-политическая проблема // Огарёв-Online. 2022. № 6 (175). С. 1–7. URL: https://journal.mrsu.ru/arts/formirovanie-cifrovoj-diktatury-kak-aktualnaya-obshhestvenno-politicheskaya-problema (дата обращения: 21.09.2023).
- Гавриленко О.В. Цифровые технологии социального контроля: перспективы и социальные последствия их внедрения // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2022. Т. 28, № 1. С. 145–163. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2022-28-1-145-163.
- Жданов В.Н., Конев И.В., Лазарев В.Н. Теоретическая модель социального воспроизводства города // Миссия конфессий. 2020. Т. 9, № 2 (43). С. 246–251.
- Игнатьев В.И. Искусственный интеллект: от «социального факта» к социальному агенту и переформатированию социального пространства // Искусственный интеллект и общественное развитие: новые возможности и преграды. М., 2022. С. 47–48.
- Игнатьев В.И. Проблема техносубъекта: о субъектности «сущности-конструкторов» // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13, № 1-1. С. 130–150. https://doi.org/10.17212/2075-0862-2021-13.1.1-130-150.
- Кармадонов О.А. Солидарность, интеграция, конъюнкция // Социологические исследования. 2015. № 2 (370). С. 3–12.
- Касаткина А.К. «ВКонтакте» с историей: историческая культура соучастия в группе «Ретро Обнинск» // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. № 7 (61). С. 1–6. https://doi.org/10.18254/S0001933-5-1.
- Конева А.В., Лисенкова А.А. Матрица идентичности в цифровую эпоху: социальные вызовы преодоления анонимности // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 14–28. https://doi.org/10.17223/22220836/35/2.
- Коровникова Н.А. Региональная идентичность в цифровом измерении // Дневник Алтайской школы политических исследований. 2021. № 37. С. 24–30.
- Коршунова Д.А. Виртуальные городские сообщества в социальных сетях как одна из форм медиации в культурном пространстве города // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2018. Т. 7, № 1A. С. 199–207.
- Кушхова А.Ф., Гукетлова Л.Х., Шоранова З.В. Социальное воспроизводство общности: вопросы теории // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 1–8. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18440 (дата обращения: 21.09.2023).
- Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. 384 с.
- Платонова С. И. Большие данные и организация социального контроля в цифровом обществе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2022. № 4. С. 81–91. https://doi.org/10.18384/2310-7227-2022-4-81-91.
- Резаев А.В., Стариков В.С., Трегубова Н.Д. Социология в эпоху «искусственной социальности»: поиск новых оснований // Социологические исследования. № 2. 2020. С. 3–12. https://doi.org/10.31857/S013216250008489-0.
- Сащенко Н.П. Российская идентичность в цифровую эпоху и социальные представления пользователей социальных сетей // Социальные и гуманитарные знания. 2021. Т. 7, № 1 (25). С. 40–51. https://doi.org/10.18255/2412-6519-2021-1-40-51.
- Селезнев П.С., Сургуладзе В.Ш. Цифровые вызовы социально-политической консолидации и коллективной идентичности общества // Век глобализации. 2021. № 4 (40). С. 131–144. https://doi.org/10.30884/vglob/2021.04.09.
- Соколов А.В., Палатников Д.Е. Природа и конфликтные стратегии городских сообществ в условиях виртуализации политического пространства // Власть. 2019. Т. 27, № 6. С. 97–102. https://doi.org/10.31171/vlast.v27i6.6834.
- Топорина В.А., Голубева Е.И., Король Т.О. Эколого-географические аспекты исследования городского культурного ландшафта // Лесной вестник. Forestry Bulletin. 2019. Т. 23, № 5. C. 71–78. https://doi.org/10.18698/2542-1468-2019-5-71-78.
- Чернышева Л.А., Гизатуллина Э. «ВКонтакте» с соседями: черты и практики гибридного соседствования в большом жилом комплексе Санкт-Петербурга // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2021. № 2. С. 39–71. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-2-39-71.
- Aina Y.A., Abubakar I.R., Almulhim A.I., Dano U.L., Maghsoodi Tilaki M.J., Dawood S.R.S. Digitalization and Smartification of Urban Services to Enhance Urban Resilience in the Post-Pandemic Era: The Case of the Pilgrimage City of Makkah // Smart Cities. 2023. Vol. 6, iss. 4. Р. 1973–1995. https://doi.org/10.3390/smartcities6040092.
- Marshall S.H. Reckoning with Digital Inequity in Place-Based Community Revitalization // Journal of Public and Nonprofit Affairs. 2023. Vol. 9, iss. 1. Р. 107–116. https://doi.org/10.20899/jpna.9.1.107–116.
- Zheng J., Tan Z., Dou M., Mao D. A Study on the Impact of Urban Digitalization on the Urban-rural Income Gap // Journal of Economics and Public Finance. Vol. 9, iss. 3. Р. 64. https://doi.org/10.22158/jepf.v9n3p64.