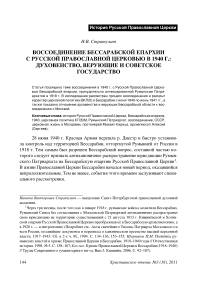Воссоединение Бессарабской епархии с Русской Православной Церковью
Автор: Стратулат Никита Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История Русской Православной Церкви
Статья в выпуске: 3 (38), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теме воссоединения в 1940 г. с Русской Православной Церковью Бессарабской епархии, принудительно аннексированной Румынским Патриархатом в 1918 г. В исследовании рассмотрен процесс воссоединения и раскрыт характер церковной политики ВКП(б) в Бессарабии с июня 1940 по июнь 1941 гг., а также показано отношение духовенства и верующих Бессарабской области к воссоединению с Москвой.
История русской православной церкви, бессарабская епархия, церковная политика кп(б)м, румынский патриархат, воссоединение, ссср, церковная жизнь в молдавии, протоиерей михаил кирица, архиепископ алексий (сергеев)
Короткий адрес: https://sciup.org/140189918
IDR: 140189918
Текст научной статьи Воссоединение Бессарабской епархии с Русской Православной Церковью
28 июня 1940 г. Красная Армия перешла р. Днестр и быстро установила контроль над территорией Бессарабии, отторгнутой Румынией от России в 1918 г. Тем самым был разрешен Бессарабский вопрос, составной частью которого следует признать антиканоничное распространение юрисдикции Румынского Патриархата на Бессарабскую епархию Русской Православной Церкви 1 . В жизни Православной Церкви Бессарабии начался новый период, оказавшийся непродолжительным. Тем не менее, события этого времени заслуживают специального рассмотрения.
Никита Викторович Стратулат — выпускник Санкт-Петербургской православной духовной академии.
***
Церковную политику, проводимую советскими властями в Бессарабии в предвоенный год, пропаганда режима румынского диктатора И. Антонеску уже в 1941–1944 гг. представляла как цепь насилий. Наиболее ярко свидетельствует об этом книга «Вызволенная Бессарабия», изданная румынской администрацией в 1942 г.2 Насилия, направленные против Церкви и её служителей, несомненно, имели место, но факты большевистских гонений, включённые в эту книгу, представляют собой вымысел3. Тем не менее, пропагандистское издание оккупационных властей до настоящего времени остается главным источником сведений как для румынских4, так и для молдавских авторов — сторонников объединения Молдавии с Румынией5. В той или иной степени тенденциозны и молдавские авторы-священнослужители6. Обладая узким кругом источников, предвоенный год они определяют только как время яростных антицерковных гонений. Вопрос об отношении бессарабских священнослужителей к воссоединению Бессарабской епархии с Русской Православной Церковью они не затрагивают. Методологически сбалансированный, но очень краткий очерк воссоединения Бессарабской епархии с Русской Православной Церковью дан протоиереем Владиславом Цыпиным7. Несколько сведений из жизни Кишинёвской епархии в 1940 г. сообщается в книге «Правда о религии в России»8. Недавно изданный в Москве молдавским историком В. Пасатом сборник документов «Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие…»9, а также ряд публикаций10 позволяют более подробно, чем это было сделано до настоящего времени, исследовать этот процесс и раскрыть действительный характер церковной политики ВКП(б) в Бессарабии с июня 1940 по июнь 1941 г. и отношение клириков области к воссоединению с Москвой.
В момент воссоединения Бессарабии с СССР на область были распространены полномочия Молдавского обкома Коммунистической партии Украины и Совета народных комиссаров Молдавской АССР, входившей в состав Украинской ССР. Однако уже 2 августа 1940 г. была образована союзная Молдавская Советская Социалистическая Республика, и её внутреннюю политику, включая политику в отношении Церкви, определяло уже руководство Коммунистической партии Молдавии, знающее положение на местах. Но о тенденциях к изменению «политики партии» по отношению к Церкви оно не было осведомлено и поэтому было склонно действовать в духе антицерковной политики 20-х–30-х гг.
Между тем позиция центра в вопросах церковной политики в воссоединённой области оказалась отчасти свободной от большевистского радикализма времён Гражданской войны. Одной из причин этого являлось изменение обстановки на международной арене. К тому времени на Западе уже шла Мировая война. В сентябре 1939 г. Германия, разгромив польскую армию, оккупировала ее земли. Весной 1940 г. немецкие войска оккупировали страны Северной Европы: Данию и Норвегию. 22 июня капитулировала Франция. В Москве понимали, что, в конечном счете, война между Германией и СССР неизбежна. Сеять вражду к советским властям среди молдавского населения, в подавляющем большинстве лояльно настроенного к СССР, преследуя религию и её служителей, представляло собой несомненную политическую ошибку. В этих условиях проведение в Бессарабии антицерковных мероприятий, осуществлённых в прежних границах СССР и сопровождавшихся крайним обострением отношений между верующими и государством, было политически нецелесообразно, и таковых не намечалось11. Церковные приходы и монастыри Бессарабии были обложены высокими налогами, что было естественно в стране, готовящейся к войне, но других антицерковных мер не последовало.
Из более чем 2600 имевшихся в области священников и монахов в июньские дни 1940 г. Бессарабию покинул только епископ Ефрем (Енэческу) 12 и группа румынских священников. Позднее, утверждают румынские авторы, часть священников прекратила пастырскую деятельность из страха перед атеистическими властями или будучи не в состоянии нести налагаемые на них финансовые обязательства. По мнению архимандрита Варлаама (Кирицы), из городского и сельского духовенства на месте осталась приблизительно одна треть. Эта оценка масштабов бегства священнослужителей представляется завышенной. Из 938 церквей и 25 монастырей 13 , существовавших в Бессарабии к началу 1940 г., до начала войны были закрыты только 5 монастырей и некоторые церкви. Отъезд епископа Ефрема в Румынию священники-молдаване сочли позорным бегством, «доказательством его малодушия, трусости и отсутствия пастырского созна-ния» 14 . Оставшиеся священники обслуживали по нескольку приходов. Монахи за епископом Ефремом не последовали, что следует признать свидетельством их ориентации на Русскую Церковь. Но в монастырях ощущалась тревога за свое будущее. Русская Церковь, в отличие от Румынской, была не государственной, а гонимой. И все же возвращение Бессарабской епархии под юрисдикцию Русской Православной Церкви состоялось по инициативе духовенства и верующих Бессарабии. Поскольку шло время, а восстановления церковной жизни не происходило, группа Кишинёвского духовенства во главе с протоиереем Михаилом Кирицей направила в адрес Московской Патриархии телеграмму с просьбой прислать на Кишинёвскую кафедру епископа 15 .
Руководство Русской Православной Церкви исходило из того факта, что патриарх Тихон не признал каноничным подчинение приходов Бессарабской епархии Русской Церкви Румынскому Патриархату16. Претензии Московского Патриархата к Патриархату Румынии, предъявленные, правда, в 1945 г., несомненно, были сформулированы ещё в 20-е гг., когда эти действия Румынской Церкви стали широко известны. Русская Православная Церковь обозначила не только «поступки, не оправдываемые церковными канонами», а именно: административное давление на «Русскую православную епархию в незаконно оттор-женной от России Бессарабии», — но и отказ от богослужения по старому стилю, уничтожение богослужебных книг, составленных на церковно-славянском языке, вывоз из бессарабских приходов церковной утвари и облачений, гонения на русских священнослужителей, «лишённых в свое время приходов и свободы религиозной деятельности за верность русской юрисдикции или отказ подчиниться реформам, вводившимся Румынской Патриархией»17. Ибо, согласно каноническому праву, Бессарабская епархия и в 1918–1940 гг. оставалась частью Русской Православной Церкви.
Однако проводники политики государственного атеизма, вероятно, сознавали, что территориальное расширение юрисдикции Русской Православной Церкви за счет областей, где церковная жизнь сохранилась в легальных формах, укрепит её позиции в СССР в целом. То обстоятельство, что этот процесс, ставший возможным вследствие продвижения границ Советского государства на запад, соответствует государственным интересам Советского Союза, ещё требовалось доказывать в структурах верховной власти. Вопрос о допустимости действий Церкви в воссоединенной Бессарабии решался нетерпимо долго — около пяти месяцев — возможно потому, что решался одновременно с аналогичными вопросами, касавшимися церковной политики в Прибалтике и западных областях Белоруссии и Украины, также вошедших в состав СССР. В конечном счете, руководство ВКП(б) не стало чинить Русской Православной Церкви препятствий при восстановлении её юрисдикции в Бессарабии. Однако митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), Местоблюститель Патриаршего престола, был осторожен. 3 декабря 1940 г. он командировал в Бессарабию епископа Тульского Алексия (Сергеева) лишь в качестве «управляющего православными общинами Кишинёвской, Бельской, Измаильской и Черновицкой Епархий сроком на 6 месяцев»18. На должность секретаря епархиального управления Кишинёвской епархии был командирован протоиерей Петр Филонов, настоятель церкви «Нечаянная Радость» в Москве19.
Прибыв в Кишинёв, епископ Алексий нашел поддержку у местного священства. Первым делом владыка удовлетворил просьбы клириков Молдавской епархии о переводе богослужебного календаря на старый стиль. Бывшего лидера движения в защиту богослужения по старому стилю священника Владимира Полякова епископ назначил настоятелем Всехсвятской церкви в Кишинёве на армянском кладбище. Позже Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий — вероятно, по инициативе епископа Алексия — наградил протоиерея Владимира митрой 20 . Получили назначения также протоиерей Михаил Кирица, его сын Василий, бельцкий священник Николай Климович, и некоторые другие участники защиты церковной традиции.
Решение наболевшего вопроса о возврате к богослужению по юлианскому календарю снискало епископу доверие священнослужителей и верующих. Не прибегая — в отличие от румынского архиепископа Никодима, подчинившего Бессарабскую епархию Румынскому Патриархату в 1918–1919 гг. — к «содействию» военного командования, политической полиции и гражданской администрации, владыка Алексий получил от части бессарабских священников личные заявления о приеме их приходов в каноническое подчинение Русской Церкви. Успеху его служения, несомненно, способствовало положительное отношение к акту воссоединения Бессарабии с Россией не только верующих, но большинства клириков-молдаван. Заявления были поданы священниками добровольно. Свидетельством тому и то обстоятельство, что не все они сделали этот шаг, и никто из них по причине отказа не пострадал. Известен только один случай, когда бессарабский священник — да и то два десятилетия спустя после события и явно по личным мотивам — дезавуировал свое заявление на имя епископа Алексия, данное в 1940 году 21 .
С деятельностью владыки Алексия верующие связали стабилизацию церковной жизни Бессарабии. «Во главе бессарабского духовенства, — свидетель- ствует архимандрит Варлаам далее, — появилась сильная воля и светлый ум. Еп[ископ] Алексий в очень короткий срок учредил епархиальное управление, назначил благочинных из достойнейших и вообще всерьез приступил к управлению Бессарабской Церковью, сея в сердцах уверенность в завтрашний день; подкупая всех своей простотой и своими манерами, он сумел заставить уважать его епископский сан и исполнять приказания владычны. С приездом еп[ископа] Алексия Бессарабская Церковь входит в те покойные берега, откуда вышибли её исторические обстоятельства после ухода архиепископа Анастасия (1918 г.). Кишинёвские жители искренне полюбили и привязались к еп[ископу] Алексию. При его вдохновенной службе кафедральный собор был переполнен молящими-ся»22. Вклад владыки Алексия в налаживание церковной жизни в Молдавии был должным образом оценён священноначалием Русской Церкви. 12 мая 1941 г. он был утверждён на Кишинёвской кафедре с присвоением ему титула архиепископа Кишинёвского и Бессарабского23.
Что касается властей Молдавской ССР, то их действия свидетельствуют об отсутствии у них собственной программы действий в церковной сфере и соответствующих указаний из Москвы. Только 13 сентября 1940 г. было издано Постановление СНК Молдавской ССР «Об изъятии метрических книг у духовенства всех вероисповеданий и религиозных сект» — согласно статье 124 Конституции СССР об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, «а равно в целях создания правильной работы органов записи актов гражданского состояния»24. 24 октября вышло Постановление СНК Молдавской ССР «О мероприятиях по восстановлению в Молдавской ССР действия советских законов о национализации лесов», согласно которому церковные и монастырские леса передавались в государственную собственность25. Этот акт нарушал имущественные права Церкви, но был вполне ожидаем. Зато антирелигиозная пропаганда, хотя она и рассматривалась как «составная часть партийной работы», по оценке партийного руководства, находилась в «застое» не только на правом, но и на левом берегу Днестра, то есть практически не велась. Её отсутствием партийные функционеры пытались объяснять оживление агитации «церковников и сектантов» против социально-политических мероприятий, проводимых в Бессарабии партией и правительством. 7 марта 1941 г. бюро ЦК КП(б) Молда- вии все же приняло решение «Об антирелигиозной пропаганде и работе Союза воинствующих безбожников в Молдавии». Оно предусматривало издание атеистической литературы26. Однако сколько-нибудь серьезной антирелигиозной работы в предвоенный год развёрнуто не было, не последовало даже издания атеистических брошюр.
Не состоялась и тотальная национализация церковной собственности. Упразднение осенью 1940 г. монастырей в селах Фрумоаса, Суручены, Курки и Гержавка и передача их строений ведомству здравоохранения было осуществлено молдавскими коммунистами по собственной инициативе, а не по приказу из Москвы, в контексте мер по национализации средств производства. В помещении Кишинёвской духовной семинарии открыт клуб сотрудников НКВД, затем здание передали Архивному отделу НКВД МССР. Были закрыты некоторые храмы 27 , вероятно, покинутые священниками. Вопиющим актом произвола атеистов стало выдворение за стены обители общины женского монастыря в селе Жабка Резинского района. Её составляли русские монахини, бежавшие из Холмской епархии, оккупированной немецкими войсками в ходе Первой мировой войны. Они были перевезены сюда в апреле 1916 г. из монастыря Лес-на архиепископом Кишинёвско-Хотинским Анастасием, прежде окормлявшим Холмскую епархию, оказавшуюся в зоне военных действий. Жесткая мера советских властей, возможно, была обусловлена тем обстоятельством, что игумения Жабского монастыря Екатерина была родом из царской семьи Романовых. Имущество монастыря власти конфисковали 28 .
Начатую весной 1941 г. опись имущества религиозных организаций, прежде всего предметов из драгоценных металлов, можно расценить как подготовку к их изъятию, однако попыток осуществить эту операцию советские власти не предприняли ни накануне войны, ни после её начала. Более того, 19 апреля бюро ЦК КП(б) Молдавии отменило решение Кишинёвского уездного комитета партии о закрытии Кэприяновского монастыря как «неправильное и политически вредное»29. Закрытие монастыря сопровождалось расхищением его собственности. Прокурору республики С. Бондарчуку бюро поручило расследовать факты, а виновных привлечь к ответственности. Секретарей уездных, городских и рай- онных комитетов партии бюро обязывало обсудить настоящее постановление30. По существу, это была попытка партийных деятелей, понимающих суть государственных интересов, пресечь антицерковный произвол чиновников. И она была предпринята в условиях, когда уверенности в позиции союзного центра по этому вопросу не имелось.
Мелкие функционеры по-прежнему выявляли показной «атеизм», считая его демонстрацией преданности советской власти. В селе Слободзея Сорокско-го уезда заведующий школой Робалевич во время богослужения вошел в храм и начал выгонять оттуда детей. В селе Ходороуцы в церковь во время службы вошел милиционер. Не сняв фуражку, с дымящейся папиросой, насвистывая веселый мотив, он прошел в алтарь и предложил священнику после службы зайти в милицию. Оскорбительное поведение функционеров вызывало возмущение верующих. В селе Раковец произошло выступление крестьян против проведения описи имущества местной церкви: по призыву священника Батковского крестьяне прекратили полевые работы 31 . Исходя из вышесказанного, отметим следующее: во-первых, антицерковные выходки советские служащие совершали по собственной инициативе, а не по указаниям начальства; во-вторых, уже первые антицерковные мероприятия советской власти спровоцировали протесты населения.
Уполномоченный ЦК ВКП(б) и СНК СССР по Молдавии С.А. Гоглидзе, озабоченный политическим ущербом, нанесённым советской власти действиями атеистов и, надо полагать, осведомленный о сдвигах в политике в отношении к Церкви, происходящих в руководстве партии, вмешался в ход событий. 15 мая 1940 г. он обратился к секретарю ЦК КП(б) Молдавии П.Г. Бородину с письмом, в котором указал на ошибки, допущенные при проведении описи церковного имущества, повлекшие за собой волнения в селе Раковец. Местную власть, которая пыталась квалифицировать протесты верующих как «антисоветские» выступления, представитель центра «поправил». С.А. Гоглидзе потребовал «предупредить все районы и уезды о необходимости строго продуманного и тактичного подхода к населению при проведении описи церковного имущества»32. 20 мая первый секретарь ЦК КП(б) Молдавии П.Г. Бородин, перечислив приведённые выше факты оскорбительного обращения с чувствами верующих, направил секретарям уездных, городских и районных комитетов партии директивное ука- зание «об ошибках при проведении описи церковного имущества», в котором потребовал «привлекать к ответственности лиц, допускающих администрирование и нарушение законов советской власти в вопросах закрытия молитвенных домов, описи имущества в молитвенных домах»33. Директива, шедшая вразрез с антицерковным курсом двух десятилетий, не была понята партийными функционерами. 7 июня, за две недели до начала войны, секретарь ЦК КП(б) Молдавии М.М. Бессонов, перечислив факты нарушений прав верующих, вновь потребовал от партийных организаций республики «провести решительную борьбу с подобного рода явлениями, привлекая к ответственности в партийном и советском порядке всех тех, кто оскорбляет религиозные чувства трудящихся»34.
Репрессии, направленные против священнослужителей как социальной группы, в этих политических условиях партийное руководство республики должно было расценить как политическую ошибку. Имели ли они место? Ссылаясь на публикацию румынского историка М. Пэкурариу, основанную на пропагандистских материалах румынской оккупационной администрации, в своей монографии 1997 г. издания А. Петренку утверждает, что накануне войны в Бессарабии большевики «умертвили и депортировали в Сибирь 52 священника и 45 певчих», но ни одного имени репрессированного клирика не называ-ет35. В хорошо документированных трудах В. Пасата о сталинских репрессиях 40-х гг. об арестах и депортациях священнослужителей не упомянуто. Как социальная группа, подлежащая выселению из приграничной полосы, которой предстояло стать прифронтовой, священнослужители в планах НКВД не зна-чились36. В своей книге, изданной в 2006 г., А. Петренку, очевидно, признавая недостоверность их сведений о репрессиях против священнослужителей, приведённых им в работе 1997 г., повторять их не стал37. Однако аресты священнослужителей всё же имели место. В августе 1940 г. был взят под стражу 79летний священник Александр Балтага. Причина ареста очевидна: 27 марта 1918 г. священник Александр Балтага, в то время член «Сфатул цэрий» («Совет стра- ны»)38, проголосовал за присоединение Бессарабии к Румынии. Голосование состоялось в отсутствие гарантий личной безопасности членов этого собрания, и вопрос о личной вине священника вызывал сомнения; следствие затянулось. В начале войны протоиерей Александр был эвакуирован в Казань. 7 августа, едва прибыв, он умер в тюремной больнице от воспаления легких39. По другой версии, смерть настигла священника в поезде по пути в Сибирь40. Сурово и ещё более несправедливо обошлась советская юстиция со священником Иеремией Чеканом, публицистом-«черносотенцем» дореволюционных времён, а в 20-е – 30-е гг. — пылким критиком церковной политики большевиков. Вместе с тем он обличал политику, проводимую в Бессарабии Бухарестом, выступал в защиту богослужения на русском языке, выпускал русские газеты. Его патриотическая и прорусская деятельность была широко известна в Бессарабии41. Тем не менее, он также был арестован и 13 марта 1941 г. за «контрреволюционную деятельность» приговорён Кишинёвским окружным судом к расстрелу. Однако, отмечает один из его биографов, у 74-летнего священника и в ведомстве Л. Берии нашлись влиятельные заступники. Чекана не расстреляли ни на следующий день, ни через месяц, ни через два. Но тут грянула война. Отстаивать право на жизнь столь именитого «контрреволюционера» стало смертельно опасно. 27 июня, когда Тирасполь пятый день бомбила румынская авиация, И. Ф. Чекан был расстрелян42.
На основании архивных документов и личных фондов иеромонахом Иосифом (Павлинчуком) составлен список арестованных, осуждённых и погибших священников, монахов и мирян, в котором под 1940–1941 гг. названы имена 28 человек. В списке не указан протоиерей Иеремия Чекан — возможно потому, что в наказание за критические выступления в печати он ещё в 20-е гг. был лишён права носить крест. Из упомянутых в списке двое священников числятся убитыми неизвестными лицами. Об одном сказано, что он «злодейски убит органами НКВД», 3 были расстреляны в местах заключения во время войны, один был приговорен к смерти, а 21 — к тюремному заключению либо сослан в Сибирь. Из числа сосланных либо заключенных священников 7 на родину не вернулись 43 .
Причины репрессий публикатором не указаны, но следует отметить, что все арестованные были старше 40 лет и могли участвовать в гражданской войне на стороне белых. Некоторые священники в 20-е – 30-е гг. сотрудничали с румынской политической полицией, либо вели антисоветскую пропаганду, что также могло послужить причиной их ареста. Во всяком случае, оснований для сомнений в том, что предъявленные им обвинения носили политический характер, не имеется. Таким образом, в предвоенный год в Бессарабии было репрессировано 27 священников, 12 из них погибли: 4 были расстреляны, ещё 8 скончались в заключении или ссылке. Причастность репрессивных служб к смерти ещё двоих священников остается неустановленной. Вследствие арестов Бессарабская епархия потеряла 3% священников. Но репрессий, направленных специально против служителей Церкви как таковых, в Бессарабии советские власти в предвоенный год не проводили 44 .
Восстановление юрисдикции Русской Православной Церкви над православными приходами Бессарабии представляло собой только устранение последствий антиканоничных действий Румынского Патриархата, предпринятых в 1918–1940 гг., и открывало возможности урегулирования межцерковных отношений. Однако братские взаимоотношения между двумя Церквами в предвоенный период так и не были восстановлены.
В июне 1941 г. началась Великая Отечественная война. Глава Кишинёвской епархии архиепископ Алексий (Сергеев) незамедлительно обратился к православным Молдавии с патриотическим воззванием45. Несомненно, им было оглашено «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), в котором митрополит благословил народ на подвиг защиты Отечества. «Фашистские изверги, — восклицал митрополит Сергий, — являются сатанинскими врагами веры и христианства. У русских людей, у всех, кому дорога наша Отчизна, сей- час одна цель — во что бы то ни стало одолеть врага»46. Несмотря на быстрое продвижение немецких войск вглубь страны, в период боев в Молдавии владыка Алексий оставался на своем пастырском посту. «И даже в плохое время июня 1941 г., когда фашистские звери выбивали из родных гнёзд русских людей, — с признательностью отметил архимандрит Варлаам, — еп[ископ] Алексий, не выказывая ни малейшего страха, продолжал служить [в Кишинёвском кафедральном соборе], доказывая свое мужество и веру в победу русских, родных воинов. Патриот до мозга костей, он призывал народ на непримиримую борьбу с врагом славян»47.
***
Воссоединение Бессарабской епархии с Русской Православной Церковью произошло при поддержке части бессарабского духовенства. Инерция воинствующего безбожия в СССР ещё не была исчерпана, и Бессарабская Церковь не избежала гонений, но они не приняли крайних форм антицерковной борьбы революционных времен. Показательно, что инициаторами антицерковных действий выступали местные партийные органы и мелкие функционеры. Деятели Коммунистической партии Молдавии и их куратор — представитель центра, вынужденные считаться не только с антицерковной политикой, но и учитывать государственную нецелесообразность проведения репрессивной политики в отношении Церкви, либо осведомленные о новых тенденциях в церковной политике, занимали выжидательную позицию. К началу Великой Отечественной войны поворот в церковной политике ВКП(б) едва наметился, и возможности Православной Церкви в деле моральной подготовки населения Молдавии к защите Родины были использованы советскими властями в незначительной степени. Но крайностей, свойственных церковной политике большевиков в годы революции, накануне Великой Отечественной войны Бессарабской епархии удалось избежать.
Список литературы Воссоединение Бессарабской епархии с Русской Православной Церковью
- Акты святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позд-нейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-1943: Сб. в 2-х ч. М., 1994. 1064 с. 46
- Иосиф (Павлинчук), иером. Кишинёвско-Молдавская епархия в период с 1944 по 1989 год. Ново-Нямецкий монастырь, 2004. 320 с.
- Ириней (Тафуня), иером. История Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого Кицканского монастыря. Ново-Нямецкий монастырь, 2004. 172 c.
- История Республики Молдова: с древнейших времён до наших дней (Istoria Republicii Moldova: din cele mai vechi timpuri pină în zilele noastre). Кишинёв, 2002. 360 с.
- Мелинти М. Жабский женский монастырь//Независимая Молдова. 2005. 9 июня.
- Орзул И. История Кишинёвско-Молдавской епархии в период её нахож-дения в составе Русской Православной Церкви: Дис. …канд. богословия. Л., 1958. 259 с.
- Пасат В. Операция «Север». Власти и церковные конфессии в Молдавии в 1940-1960-х гг.//Церковь в истории России: Сб. 3. М., 1999. С. 215-254.
- Пасат В. Русская Православная Церковь в Молдавии в 40 -начале 60-х годов XX века//Церковь в истории России: Сб. 4. М., 2000. С. 293-326.
- Пасат В. Суровая правда истории. Депортации с территории Молдавской ССР. 40-50 гг. Кишинэу, 1998. 416 с.
- Правда о религии в России. М., 1942. 458 с.
- Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991: Сб. до-кум. в 4-х т. Т. 1: 1940-1953. М., 2009. 824 с.
- Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: Сб. цер-ковных докум. М., 1943. 100 с.
- Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917-1997. М., 1997 (История Русской Церкви: Кн. 9). 832 с.
- Цыпин В., прот. Русская Православная Церковь в новейший период. 1917-1999 гг.//Православная энциклопедия. Русская Православная Цер-ковь. М., 2000. С. 134-178.
- Шорников П.М. Досье подвижника: Общественная деятельность Иере-мии Чекана по материалам румынской тайной полиции//Русский альбом. Историко-литературный альманах: Вып. 7. Кишинёв, 2002. С. 117-131.
- Шорников П.М. Иеремия Чекан, его «дело» и деяния//Русское слово. 2008. № 14 (178). Апрель.
- Шорников П.М. Кризис Православной Церкви в Бессарабии (1918-1940)//Труды Современного гуманитарного ин-та: Вып. 3. Кишинёв, 2006. С. 92-107.
- Шорников П.М. Политика румынских властей и кризис Православной Церкви в Бессарабии. 1918-1940 годы//Отечественная история. 1998. № 5. С. 158-167.
- Шорников П.М. Поля падения: историография молдавской этнополити-ки. Кишинёв, 2009. 200 с.
- Шорников П.М. Церковная политика Румынии в Бессарабии (1941-1944)//Международная научная конференция «Сохранение культурного насле-дия в странах Европы» г. Кишинёв, 25-26 сентября 2008 г. Сhişinău, 2009. С. 276-286.
- Basarabia dezrobită. F. l. Bucureşti, 1942. 284 р.
- Colesnic I. Alexandru Baltaga/Basarabia necunoscută: Vol. 3. Chişinău, 2000. P. 100-111.
- Pasat V. Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti 1940-1950. М., 2006. 456 р.
- Păcurariu M., pr. Basarabia. Аspecte din istoria Bisericii şi a Neamului Romănesc. Iaşi, 1993. 152 р.
- Păcurariu M., pr. Istoria Bisericii Ortodoxe Romăne. Chişinău, 1993. 496 р.
- Păcurariu M., pr. Istoria Bisericii Ortodoxe Romăne din Basarabia//Teologieşi Viaţă. 1991. № 9-12. Р. 15-49.
- Păcurariu M., pr. Pagini din istoria Bisericii Romăneşti//Columna. 1992. №6-7. С. 37-44.
- Petrencu A. Basarabia în al doilea razboi mondial. 1940-1944. Chişinău, 1997. 176 p.
- Petrencu A. Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial (1939-1945). Chişinău, 2006. 223 р.
- Postică G. Mănăstirea Căpriana (de la întemeiere pînă în yilele noastre). Chişinău, 2000. 76 р.