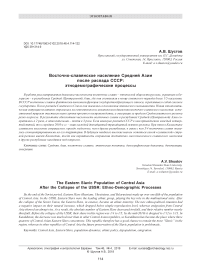Восточно-славянское население Средней Азии после распада СССР: этнодемографические процессы
Автор: Шустов А.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматривается динамика численности восточных славян - этнической общности русских, украинцев и белорусов - в республиках Средней (Центральной) Азии, где они составляли к концу советского периода более 1/5 населения. В СССР восточные славяне фактически выполняли функции государствообразующего этноса, скреплявшего собой союзное государство. После распада Советского Союза они оказались в положении этнического меньшинства. Новая этнополити-ческая ситуация негативно отразилась на естественном и механическом движении восточно-славянского населения: естественный прирост опустился ниже уровня простого воспроизводства, а эмиграция за пределы Среднеазиатского региона резко возросла. В результате абсолютная численность восточных славян в республиках Средней (Центральной) Азии сократилась в 2 раза, а относительная - почти в 3 раза. Если накануне распада СССР к ним принадлежал каждый четвертый-пятый, то к середине 2010-х гг. - лишь каждый двенадцатый-тринадцатый житель региона. При этом в Казахстане славянское население сокращалось гораздо медленнее, чем в других республиках, в связи с чем 3/4 восточных славян оказались сконцентрированными на его территории. В будущем наиболее высокие шансы остаться самой «славянской» страной региона имеет Казахстан, тогда как вероятность сохранения достаточно многочисленного славянского населения в других республиках находится под вопросом.
Средняя азия, восточные славяне, этническая политика, демографическая динамика, депопуляция, эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/145145897
IDR: 145145897 | УДК: 39+314.9 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.114-122
Текст научной статьи Восточно-славянское население Средней Азии после распада СССР: этнодемографические процессы
Восточные славяне – совокупность трех этногенетически, лингвистически и культурно родственных народов – к моменту распада СССР являлись второй по численности этнической общностью Средней (Центральной) Азии*, уступая лишь тюркоязычным народам региона (узбеки, казахи, туркмены, киргизы, каракалпаки, татары, уйгуры) и заметно превосходя все о стальные этнолингвистические группы, в т.ч. ираноязычную (таджики, белуджи, джемшиды). Выполняя де-факто функции «имперского» этноса, скреплявшего собой союзное государство, они испытали на себе все последствия распада СССР.
Восточно-славянское население Средней Азии и Казахстана** включало несколько групп, различавшихся как этнически (русские, украинцы, белорусы), так и по времени переселения на данную территорию (старожильческое население, переселенцы советского периода). При этом почти все украинцы и белорусы хорошо владели русским языком [Национальный состав…, 1991, с. 92–137], а у старожилов постепенно складывался «единообразный тип культуры», что нашло отражение в определенной нивелировке национального самосознания и формировании смешанного русско-украинского говора [Брусина, 2001, с. 16]. Схожим было политическое, социальное и экономическое положение трех восточно-славянских народов. В результате политики «коренизации» они уступили бóльшую часть ключевых руководящих постов представителям титульных этносов. В то же время славяне, и прежде всего русские, составляли большинство занятых в промышленности и других технологически сложных отраслях и сферах деятельности, фактически обеспечивая функционирование индустриального сектора экономики [Брусина, 1996, с. 6–7]. Это противоречие привело к тому, что после распада СССР положение славянского населения резко ухудшилось.
Численность и состав восточно-славянского населения Средней Азии накануне распада СССР
По данным Всесоюзной переписи 1989 г. в Среднеазиатском регионе, который входящие в него государства с начала 1990-х гг. стали официально именовать Цен- тральной Азией, насчитывалось более 10 992 тыс. восточных славян (табл. 1), что было сопоставимо с численностью населения Белоруссии (10,2 млн), вдвое превышало число жителей Таджикистана (5,1 млн), в 2,5 раза – Киргизии (4,3 млн) и втрое – Туркмении (3,5 млн). Удельный вес русских среди восточных славян составлял 86,6 %, украинцев – 11,2, а белорусов – всего 2,2 %.
Расселение славян по территории Среднеазиатского региона отличалось неравномерностью: в Казахской ССР, северные области которой граничили с зоной сплошного расселения русских в РСФСР, – 66,5 %, в Узбекской – 16,7, в Киргизской – 9,4 %, в Таджикской – 4, в Туркменской – 3,4 %.
Различия между среднеазиатскими республиками по абсолютной численности славянского населения были еще значительнее. Если в Казахской ССР проживало более 7 млн восточных славян, что было сопоставимо со всем населением Таджикистана и Киргизии вме сте взятых, то в Узбекистане – в 4 раза меньше, в Киргизии – в 7 раз, в Таджикистане – в 17 раз, а в Туркмении – в 19 раз (табл. 1). Причем такая картина была характерна не только для русских, большинство украинцев и белорусов также проживало в Казахстане. После распада СССР эти различия стали одним из факторов демографической «устойчивости» славянского населения, темпы убыли которого были ниже в тех странах, где оно являлось более многочисленным.
К концу советского периода восточные славяне составляли почти четверть жителей Средней Азии. При этом их удельный вес по республикам сильно колебался. Если в Казахской ССР они составляли почти половину населения, то в Киргизской – около четверти, а в Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР – ок. 1/10 (табл. 1). В сопоставлении со средним по региону уровнем процент славян среди жителей Казахстана был в 2 раза выше, в Киргизии – соответствовал ему, а в остальных республиках – в 2 раза и более ниже. Неравномерность расселения во многом связана со спецификой природно-климатических условий. В Казахстане и Северной Киргизии было много пригодных для земледелия земель, и основной поток крестьянской колонизации направлялся именно в эти районы. На территории Узбекистана, Южной Киргизии, Таджикистана и Туркмении свободных земель почти не было, а возможности для основания сельских славянских поселений появились только после строительства ирригационных каналов [Бруси-на, 2001, с. 25–26]. Поэтому славянская колонизация в Туркестане была преимущественно городской. Приток славян в Казахстан также был связан с массовой эвакуацией в годы Великой Отечественной войны, кампанией по освоению целины и строительством промышленных предприятий.
Таблица 1. Численность восточно-славянского населения Средней Азии (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) *
|
ССР |
Русские |
Украинцы |
Белорусы |
Всего |
||||
|
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
Кол-во |
% |
|
|
Казахская |
6 227 549 |
37,8 |
896 240 |
5,4 |
182 601 |
1,1 |
7 306 390 |
44,3 |
|
Узбекская |
1 653 478 |
8,3 |
153 197 |
0,8 |
29 427 |
0,2 |
1 836 102 |
9,3 |
|
Киргизская |
916 558 |
21,5 |
108 027 |
2,5 |
9 187 |
0,2 |
1 033 772 |
24,2 |
|
Таджикская |
388 481 |
7,6 |
41 375 |
0,8 |
7 247 |
0,1 |
437 103 |
8,5 |
|
Туркменская |
333 892 |
9,5 |
35 578 |
1,0 |
9 220 |
0,3 |
378 690 |
10,8 |
|
Всего |
9 519 959 |
19,4 |
1 234 417 |
2,5 |
237 682 |
0,5 |
10 992 057 |
22,4 |
*Составлено по: [Национальный состав…, 1991, с. 13–19; Всесоюзная перепись населения 1989 года…].
Роль и место славян в этнической структуре среднеазиатских республик накануне распада СССР существенно различались. В Казахстане, где казахи, по данным переписи 1989 г., составляли 39,7 % населения, а восточные славяне – 44,3 %, они фактически являлись этническим большинством, а в Киргизии – самой крупной после киргизов (52,4 %) этнической общностью (24,2 %). В остальных среднеазиатских республиках соотношение титульного этноса и восточных славян в конце 1980-х гг. было следующим: в Узбекистане – 71,4 и 9,3 %, в Таджикистане – 62,3 и 8,5, в Туркменистане – 72,0 и 10,8 % [Национальный состав…, 1991, с. 13–19].
В целом накануне распада СССР восточные славяне по совокупной численности в пяти среднеазиатских республиках (11 млн) уступали в масштабах всего региона лишь узбекам (16,7 млн) и значительно превосходили все прочие титульные этносы, включая казахов (8,1 млн), таджиков (4,2 млн), туркменов (2,7 млн) и киргизов (2,5 млн)* [Население СССР, 1990, с. 37]. Большинство славян в Средней Азии проживало в городах, хотя в Казахстане и Киргизии существенной была и доля сельского славянского населения [Фридман, Каражас, 1994, с. 8]. Высокий уровень урбанизации обусловил более слабые по сравнению с коренными этносами «привязанность к земле» и адаптацию к условиям экономического кризиса 1990-х гг.
Распад СССР и этническая политика среднеазиатских государств
Распад Союза для славянского населения Средней Азии оказался шоком. «Для русских в Узбекистане потеря правящего статуса с образованием СНГ была совершенно неожиданной, – отмечает российский со- циолог Л. Дробжиева, – 8 декабря 1991 года они проснулись в другом государстве. Потрясение было тяжелым, поскольку принятая совсем недавно, осенью 1991 года, декларация независимости Узбекистана не рассматривалась как отречение от Союза или как событие, лично касающееся кого бы то ни было» (цит. по: [Кайзер, 1998, с. 66]). Неожиданное превращение в национальное меньшинство крайне негативно отразилось на социальном и экономическом положении славян, а также отношении к ним со стороны титульного населения. Ситуация усугублялась резким и повсеместным ростом националистических настроений на рубеже 1980-х – 1990-х гг.
В нормативно-правовых актах многих стран СНГ, принятых в первые годы после распада СССР, закреплялось привилегированное положение титульных этносов. Так, первая казахстанская конституция, принятая 28 января 1993 г., гласила, что Республика Казахстан является «формой государственности самоопределившейся казахской нации» [Конституция… 1993 года]. Из конституции 1995 г. это определение исчезло, но в ее преамбуле появились слова о «созидании» государственности на «исконно казахской земле» [Конституция…, 2001, с. 3]. В Киргизии закон о земле, принятый в апреле 1991 г., устанавливал, что «земля в Ре спублике Кыргызстан является собственностью киргизов», а «внеэтнический» вариант данной формулировки «земля принадлежит народу Кыргызстана» президенту А. Акаеву удалось «продавить» только после многочисленных попыток [Кайзер, 1998, с. 62].
Ключевым «индикатором» этнической политики стало правовое положение русского языка. Де-факто играя в советский период роль государственного, на практике он вплоть до распада Союза никакого юридически закрепленного статуса не имел. Принятый в апреле 1990 г. закон «О языках народов СССР», закреплявший за русским статус официального и языка межнационального общения, заметного влияния на этнополитическую ситуацию уже не оказал. В 1989–1990 гг. все республики Средней Азии приня- ли законы о государственных языках, которыми стали языки титульных этносов. В первой половине 1990х гг. это положение было закреплено новыми конституциями. В большинстве из них статус русского языка не оговаривался. Исключением стал Таджикистан, который, нуждаясь в поддержке Москвы для борьбы с оппозицией, включил в конституцию 1994 г. пункт о том, что русский является языком межнационального общения [Шустов, 2016, с. 154–155].
«Языковой вопрос» стал одной из главных причин массовой эмиграции некоренных этносов, особенно болезненной для Казахстана и Киргизии с их самым высоким в регионе удельным весом восточно-славянского населения. В середине 1990-х – начале 2000-х гг. обе республики были вынуждены закрепить за русским языком статус официального. Так, по новой конституции Казахстана, принятой в августе 1995 г., русский язык мог использоваться наравне с казахским в работе органов власти и местного самоуправления. В июле 1997 г. был принят закон «О языках», подтвердивший равноправное применение русского и казахского во всех сферах общественной жизни [Там же, с. 155].
Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики», согласно которому русский язык мог использоваться наравне с киргизским в работе органов государственной власти, составлении всех типов документов, системе образования и других сферах, был принят в мае 2001 г. В феврале 2003 г. положение об официальном статусе русского языка было включено в новую редакцию конституции Киргизии [Там же, с. 156–157]. Такая «легализация» русского языка позволила обеим республикам снизить эмиграцию славян, достигшую своего минимального уровня в первой половине 2000-х гг. Однако уже во второй половине этого десятилетия наметилось увеличение их оттока, что было вызвано внутриполитической нестабильностью в Киргизии и постепенным ухудшением положения в Казахстане.
Суверенизация бывших союзных республик сопровождалась резким снижением представительства славян в органах власти, во многом связанным с доминированием в местной политике кланово-семейных и территориально-соседских связей. Так, по данным заместителя министра информации Казахстана О. Ряб-ченко, приведенным в докладе комитету ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации от 14 августа 2007 г., среди госслужащих казахи составляли 79 %, русские – 14,5, а украинцы – 0,9 % [Плотникова, 2014]. При этом на долю казахов по итогам переписи 2009 г. приходилось 63,1 %, русских – 23,7, а украинцев – 2,1 % населения [Национальный состав…, 2010, с. 4–5], т.е. удельный вес славян на госслужбе был в 1,7 раза меньше, чем в составе населения, а казахов – в 1,3 раза больше. По оценке же казахстанского политолога Н. Мустафаева, представителями ти- тульного этноса было занято 95 % всех официальных должностей [2004].
В Киргизии по итогам парламентских выборов 1995 г. русские и украинцы получили в Верховном Совете всего шесть мест из 105, что составило 5,7 %, т.е. в 4 раза меньше их доли среди жителей республики (24 %). Со временем ситуация еще более ухудшилась. В 2005 г. среди избранных в парламент 75 депутатов был всего один русский, т.е. 1,3 %, что в 6 раз меньше удельного веса русского населения (7,8 %). Положение не сколько улучшилось в 2007 г., когда по итогам декабрьских выборов русские получили в Верховном Совете семь мест из 85 (8,2 %). Но произошло это вследствие изменения избирательного законодательства и введения выборов по партийным спискам, в которые политические партии были обязаны включать не менее 15 % кандидатов нетитульной национальности [Шустов, 2016, с. 67].
Новая этнополитическая ситуация, сложившаяся в среднеазиатских государствах после распада СССР, крайне негативно отразилась на естественном и механическом движении восточно-славянского населения, вызвав его массовый отток за пределы региона, резкое падение рождаемости и как следствие прогрессирующую депопуляцию. По словам известного американского исследователя М.Б. Олкотт, «русские в Центральной Азии не считали себя меньшинством… так как в СССР в целом они составляли большинство. Но после распада Советского Союза им пришлось смириться с непривычным статусом меньшинства. Многие не смирились с этим и выбрали эмиграцию в Россию» [2001, с. 19].
«Кризисная» депопуляция: восточно-славянское население в 1990-х гг.
На демографическую динамику славянского населения в регионе после распада СССР определяющее влияние оказали два фактора: резкий, а в первой половине 1990-х гг. лавинообразный рост эмиграции и снижение уровня естественного прироста. В 1989–1999 гг. 3/4 «чистой» эмиграции (разница между числом эмигрантов и иммигрантов) из Средней Азии в Россию обеспечили славяне, в т.ч. более 2/3 – русские. В 1991–1999 гг. из этого региона в Российскую Федерацию эмигрировало 3 млн русских, 243 тыс. украинцев и 30,4 тыс. белорусов [Демографический ежегодник…, 1994, с. 400–401; 2000, с. 354–357]. В дальнейшем эмиграция славян продолжилась, хотя и более низкими темпами.
В начале 1990-х гг. рождаемость у славян опустилась ниже уровня про стого воспроизводства. Если у коренного населения сохранялись высокие темпы естественного прироста, то у некоренного – депопуля- ция, вызванная резким снижением рождаемости и ростом смертности. В Таджикистане, например, в 1995 г. рождаемость у таджиков составляла 29,8 ‰, у узбеков – 30,3, у русских – 6,2 ‰, а смертность – соответственно 5,3; 5,4 и 16 ‰, т.е. у русских рождаемость была в 4,8 раза ниже, а смертность в 3 раза выше, чем у «коренных» народов республики. В Киргизии в том же году естественный прирост у киргизов составлял 24,2 ‰ (рождаемость – 30,6 ‰, смертность – 6,4 ‰), у узбеков – 26,1 (32,1 и 6,0 ‰), а у русских – 5,4 ‰ (9,2 и 14,6 ‰) [Шустов, 2016, с. 89]. Высокая смертность у русского населения, молодые поколения которого активно эмигрировали, во многом обусловлена более «старой» возрастной структурой.
Под влиянием массовой эмиграции и падения естественного прироста численность славянских этносов начала быстро сокращаться, тогда как коренное население, напротив, продолжало расти. Причем темпы демографической убыли восточных славян на протяжении четверти века, прошедшего со времени распада СССР, были различными. В течение первого постсоветского десятилетия, когда шок от распада Союза еще не прошел, их численность сокращалась гораздо быстрее. В 2000-х – середине 2010 гг., когда общественно-политическая и экономическая ситуация в большинстве стран региона более-менее стабилизировалась, убыль существенно снизилась. Особенно заметной эта тенденция была в Казахстане, где вследствие большой численности славян, высокого уровня русификации титульного этноса и близости к России славянское население чувствовало себя увереннее.
На протяжении 1989 – конца 1990-х гг. число проживавших в пяти среднеазиатских республиках восточных славян сократилось почти на треть (31,6 %). Если в 1989 г. их насчитывалось почти 11 млн, то на рубеже 1999–2000 гг. – 7,5 млн (табл. 2). Причем эти данные не учитывают убыль славянского населения Туркменистана во второй половине 1990-х гг., которая в официальной статистике не отражена. Число покинувших регион в течение десятилетия славян (3,3 млн) было сопоставимым с населением Туркмении (3,5 млн), зафиксированным переписью 1989 г. Большинство из них переселилось в Россию и Украину, и лишь немногие – в Белоруссию.
По темпам демографической убыли славянского населения лидировал Таджикистан, откуда большинство славян бежало из-за начавшейся почти сразу же после распада СССР гражданской войны. В 1989–2000 гг. их численность в республике сократилась в 6 раз, а удельный вес – в 7 раз (табл. 2). Второе место по убыли восточных славян занимала Киргизия, которая, в отличие от Таджикистана, крупных военно-политических кризисов в этот период не пережила. Поэтому славянское население на ее территории в 1989–1999 гг. сократилось не столь значительно – на 36,5 %, однако его удельный вес уменьшился почти в 2 раза (табл. 2) вследствие продолжавшего прироста численности коренных этносов.
В двух крупнейших по экономике и населению странах региона – Казахстане и Узбекистане – темпы демографической убыли славян были сопоставимыми. В Казахстане численность трех восточно-славянских этносов по итогам первой национальной переписи 1999 г. сократилась на 29,7 % (табл. 2). В Узбекистане, где всеобщие переписи населения после обретения независимости не проводились, количество восточных славян, по данным текущего учета [Этнический атлас…, 2002, с. 15–254], уменьшилось к концу 1990-х гг. на 0,5 млн чел., или на 27,9 % (табл. 2). Менее значительная убыль славян в этих республиках во многом объяснялась более стабильной политической и экономической ситуацией.
Туркмения после распада СССР решила заимствовать опыт Турции, где переписи населения проводились каждые пять лет. Но проведена была лишь одна (1995 г.), по итогам которой численность славянского населения сократилась всего на 14,1 % (табл. 2). Если бы такие же темпы убыли наблюдались в следующие четыре года, то количество русских, украинцев и белорусов к концу 1990-х гг. должно было составить ок. 290 тыс. чел. Туркмения заняла бы по этому показателю (–23,4 %) последнее место в регионе, уступив не только Таджикистану (–83,4 %) и Киргизии (–36,5 %), но и Казахстану (–29,7 %) с Узбекистаном (–27,9 %). Однако из-за отсутствия официальной этнической статистики данных для окончательного вывода пока недостаточно.
Общей для всех государств региона тенденцией являлись более высокие по сравнению с русскими темпы убыли украинцев и белорусов. Если совокупная численность трех восточно-славянских народов Средней Азии в 1990-х гг. снизилась на 31,6 %, то русских – на 30,1, украинцев – на 40,9, а белорусов – на 41,3 %. В Узбекистане число русских в этот период сократилось на 27,5 %, украинцев – на 31,6, а белорусов – на 30,7 %, в Казахстане их убыль составила соответственно 28,1; 39,0 и 38,7 %, в Киргизии – 34,2; 53,3 и 65,1, а в Туркмении (1989–1995 гг.) – 10,5; 35,2 и 60,5 %. Различия в темпах депопуляции трех славянских народов были заметны даже в Таджикистане (82,5; 90,8 и 93,6 %), где «естественные» миграционные процессы были деформированы гражданской войной.
Демографическая динамика славянского населения в 2000-х – середине 2010-х гг.
В 2000-х гг. демографическая убыль славянского населения региона заметно снизилась. Первый вал эми-
Таблица 2. Динамика численности и удельного веса восточных славян в 1989–2015 гг. * 1)
По сравнению с предыдущим десятилетием абсолютная убыль восточно-славянского населения Средней Азии в 2000-х гг. снизилась почти вдвое (1,8 про- тив 3,5 млн чел.). При этом из-за резкого сокращения демографической «базы» в предыдущий период относительная убыль оказалась не столь значительной. Если в течение первого постсоветского десятилетия она составила 31,6 %, то второго – 23,8 %. Доля славян среди жителей региона за это время снизилась с 13,7 до 9,3 %. На рубеже 2000-х и 2010-х гг. к ним принадлежал каждый седьмой, а через десять лет – только каждый одиннадцатый житель Средней Азии.
Наиболее низкими темпами в 2000-х гг. сокращалось славянское население Казахстана. Его численность уменьшилась на 18,4 %, а удельный вес – на 8 % (табл. 2). Эмиграция славян снизилась в связи с успешным развитием экономики, более высоким по сравнению с другими республиками уровнем жизни, стабильной политической ситуацией, а также относительно «мягкой» национальной и языковой политикой. После резкого ее роста в начале 1990-х гг., когда количество выезжавших в отдельные годы было сопоставимым с населением некоторых областей, властям пришлось несколько смягчить курс на создание казахского национального государства, отказавшись, в частности, от ускоренного внедрения во всех сферах жизни титульного языка.
Темпы убыли восточных славян в Киргизской Республике были почти вдвое выше (–32,6 %). Если Казахстан крупные потрясения обходили стороной, то Киргизия похвастаться стабильностью не могла. В 1999–2000 гг. она пережила «Баткенскую войну» – серию вооруженных столкновений отрядов Исламского движения Узбекистана (ИДУ) с киргизскими силовиками в Баткенской обл. В марте 2005 г. и апреле 2010 г. в республике происходили государственные перевороты, сопровождавшиеся погромами и массовыми беспорядками. В июне 2010 г. ожесточенные столкновения между узбеками и киргизами на юге страны по оценке Президента Киргизии Р.И. Отунбаевой привели к гибели до 2 тыс. чел. (Коммерсант, 2010, 18 июня). На самоощущении славян все эти конфликты отразились не лучшим образом. В итоге их число сократилось на 214 тыс. чел., а удельный вес – на 5,3 % (табл. 2).
По темпам депопуляции славян лидировал Таджикистан, где их численность после гражданской войны оказалась самой низкой в регионе, хотя накануне распада СССР это место занимала Туркмения. В 2000-х гг. количество восточных славян сократило сь вдво е (табл. 2). По итогам переписи 2009 г. они составляли всего 0,5 % населения республики. Если не учитывать 201-ю военную базу и другие российские военные объекты, служащие которых статистикой к населению страны не относятся, можно заключить, что славянская община Таджикистана близка к своему полному исчезновению. Большинство о ставшихся славян находятся в преклонном возрасте и не могут уехать в Россию, а их число быстро снижается из-за естественной убыли.
В Узбекистане количество русских в 2000–2006 гг. уменьшилось на 20,6 %, а к началу 2013 г. – еще на 15 % (табл. 2). Всего же за 2000–2013 гг. их численность сократилась на треть (32,5 %), а удельный вес – на 2,3 % (табл. 2). Так как на 2000 г. русские составляли более 90 % проживавших в Узбекистане восточных славян, можно заключить, что темпы их депопуляции были выше, чем в Казахстане, несколько ниже, чем в Киргизии, и существенно ниже, чем в Таджикистане. При этом Узбекистан по-прежнему занимал второе место в регионе по абсолютной численности славян, уступая лишь Казахстану и превосходя все остальные республики Средней Азии вместе взятые.
Оценка этнодемографической ситуации в Туркмении является наиболее проблематичной. По версии оппозиционного веб-ресурса «Хроника Туркменистана», перепись 2012 г. зафиксировала в стране 5,1 % русских [Результаты…, 2015], т.е. при общей численности населения 4 751,1 тыс. их должно быть ок. 242,3 тыс. Между тем в феврале 2001 г. президент С. Ниязов заявлял, что русские составляют всего 2 % жителей Туркменистана [Сапармурат Ниязов…, 2001]. Впрочем, из-за искажений демографической статистики [Жуков, Резникова, 2001, с. 32–40] определить реальную численность славян в этот период невозможно.
В январе 2015 г. на заседании комитета ООН по правам человека в Женеве туркменская делегация сообщила, что русские составляют 2,2 % населения страны [Результаты…, 2015]. Если исходить из данных «Хроники Туркменистана» по общей численности населения, русских должно быть ок. 104,5 тыс. В целом эта цифра соответствует другим экспертным оценкам [Фомин, 2003; Российские соотечественники…, 2009], согласно которым к началу XXI в. в республике оставалось порядка 100–120 тыс. «русскоязычного» населения. Тем самым по численности славян Туркмения займет предпоследнее место в регионе, уступив лишь Таджикистану.
Заключение
Распад СССР привел к ускоренной депопуляции восточно-славянского населения Средней Азии. Если в 1989 г. славяне со ставляли 22,4 % населения региона, то к концу 1990-х гг. их удельный вес из-за лавинообразной эмиграции сократился более чем в 1,5 раза (до 13,7 %), а к концу 2000-х гг. – более чем вдвое (до 9,3 %, без учета украинцев и белорусов в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении). Доля русских в составе среднеазиатского населения к 2015 г.
уменьшилась в 2,6 раза (с 19,4 до 7,3 %), а украинцев и белорусов, темпы убыли которых были значительно выше, – более чем втрое (с 3 до менее 1 %). В целом же к 2015 г. восточные славяне составляли ок. 7,8 % жителей Среднеазиатского региона, а их число снизилось с 11 до 5,3–5,4 млн чел.
В Казахстане и Узбекистане численность славянского населения сокращалась медленнее, чем в более слабых экономически и нестабильных в социально-и военно-политическом отношении Таджикистане и Киргизии. Если в Казахстане к рубежу 2000-х и 2010-х гг. она снизилась на 42,6 %, в Узбекистане – на 48,2 (1989–2006 гг., без данных по численности украинцев и белорусов на 2006 г.), то в Киргизии – на 57,2, а в Таджикистане – на 91,8 %. Особое место занимает Туркмения, достоверная этнодемографиче-ская статистика по которой на сегодняшний день отсутствует. По экспертным оценкам можно заключить, что численность восточных славян в республике за это время сократилась более чем на 2/3.
Неравномерность депопуляции славян в странах региона привела к тому, что почти все они спустя четверть века после распада СССР оказались сконцентрированными в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Только в Казахстане к 2015 г. проживало 3/4 всего русского населения региона.
Несмотря на схожесть политических, экономических и культурных условий, численность русского, украинского и белорусского населения также сокращалась разными темпами. Если русских на территории Среднеазиатского региона в 1989–1999 гг. стало меньше на 30,1 %, то украинцев – на 40,9, а белорусов – на 41,3 %. В Казахстане эти показатели за 1989–2015 гг. составили соответственно 41,1; 67,0 и 67,6 %, в Киргизии – 60,2; 87,5 и 89,4 %. В целом же процессы депопуляции украинцев и белорусов происходили в 1,5 раза быстрее, чем русских, что было вызвано их активной этнической ассимиляцией последними.
Перспективы славянского населения Средней Азии во многом будут зависеть от развития внутриполитической ситуации в странах региона. «Славянский вопрос» в Таджикистане, где некоренных этносов почти не осталось, решен путем их почти полной эмиграции. В схожей ситуации вскоре может оказаться Туркмения, занимающая по темпам сокращения численности славян второе место. Из Киргизии значительный отток некоренных этносов сохраняется в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией. Депопуляция славянского населения Узбекистана происходила значительно медленнее, чем в Таджикистане, Туркмении и Киргизии, но несколько быстрее, чем в Казахстане. Однако, учитывая его слабую «укорененность» на территории республики, шансы на сохранение достаточно крупной славянской «общины» в Узбекистане невелики.
На сегодняшний день самыми благоприятными выглядят перспективы восточно-славянского населения Казахстана. В по следние годы наблюдается определенная стабилизация его численности на уровне ок. 4 млн чел. В 2011–2015 гг. «чистая» среднегодовая эмиграция из Казахстана в Россию составляла 36,5 тыс. чел. [Международная миграция (1997–2015 гг.)], что на фоне огромного миграционного оттока 1990-х гг. выглядит относительно небольшим показателем. В случае сохранения стабильной общественно-политической и экономической ситуации Казахстан о станется самым «славянским» государством Среднеазиатского региона. Впрочем, это не исключает увеличения эмиграции славян в случае негативных изменений внутренней политики, массовых беспорядков или военных конфликтов.
Список литературы Восточно-славянское население Средней Азии после распада СССР: этнодемографические процессы
- Брусина О.И. Национальная государственность и «русский вопрос» в Казахстане // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. - 1996. - № 94. - C. 3-15.
- Брусина О.И. Славяне в Средней Азии: Этнические и социальные процессы: Конец XIX - конец XX века. - М.:Вост. лит., 2001. - 240 с.
- Бушков В.И., Толстова Л.С. Население Средней Азии и Казахстана (очерк этнической истории) // Расы и народы. -2001. - Вып. 27. - С. 141-167.
- Всесоюзная перепись населения 1989 года: Национальный состав населения по республикам СССР (Источник: Рабочий архив Госкомстата России. Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку) // Демоскоп Weekly: Справочник статистических показателей. -URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php (дата обращения: 30.06.2017 г.).
- Демографический ежегодник России 1993: стат. сб. -М.: Госкомстат России, 1994. - 419 с.