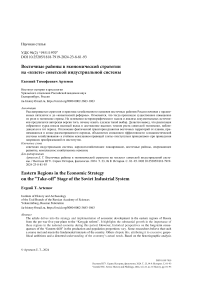Восточные районы в экономической стратегии на "взлете" советской индустриальной системы
Автор: Артемов Е.Т.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается стратегия и практика хозяйственного освоения восточных районов России начиная с предвоенных пятилеток и до «косыгинской реформы». Отмечается, что тогда произошло существенное повышение их роли в экономике страны. На основании историографического задела и анализа документальных источников предлагается авторская версия того, почему власть сделала такой выбор. Делается вывод, что реализация избранного курса внесла весомый вклад в достижение высоких темпов роста советской экономики, наблюдавшихся в тот период. Отклонение фактической траектории развития восточных территорий от планов, принимавшихся в конце рассматриваемого периода, объясняется снижением эффективности «социалистической системы хозяйствования» и стойким нежеланием правящей элиты «поступаться принципами» при проведении назревших преобразований ее институтов.
Советская индустриальная система, народнохозяйственное планирование, восточные районы, опережающее развитие, комплексное хозяйственное освоение
Короткий адрес: https://sciup.org/147245832
IDR: 147245832 | УДК: 94(2) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-81-93
Текст научной статьи Восточные районы в экономической стратегии на "взлете" советской индустриальной системы
,
,
Общепризнанно, что в советскую эпоху произошел «серьезный сдвиг массы населения, инфраструктуры и капитала на Восток страны». Однако его долгосрочные последствия для экономики оцениваются неоднозначно [Маркевич, Михайлова, 2015, с. 1065–1073]. Поэтому ретроспективный анализ стратегии и практики «опережающего», «комплексного» развития восточных районов сохраняет свою актуальность. Широкие возможности здесь открывает использование концепции «взлета индустриальных систем», обоснованной еще в ранних версиях теории модернизации. Под ним понимаются относительно краткие периоды бурного экономического роста. Его предпосылкой являются значимые технологические сдвиги и вызовы политического и социального порядка, источником – максимизация инвестиций, а обязательным условием – желание и наличие у правящей элиты властного ресурса, достаточного для осуществления обременительного для многих «экономического рывка». Период «взлета» заканчивается либо выходом на траекторию устойчивого развития, либо слабыми попытками обновления и подъема [Rostow, 1973, p. 285–300].
Концепция «взлета» разрабатывалась применительно к рыночной экономике. Но она продуктивна и при анализе советской индустриальной системы. Время ее «взлета» можно датировать началом 1930-х – второй половиной 1960-х гг.: от постановки амбициозных целей («Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет» (Сталин, 1953, с. 362)) до попыток в ходе «косыгинской реформы» дать новый импульс экономическому развитию. В названные годы Советский Союз совершил выдающийся рывок и в два раза сократил свое отставание от стран – лидеров экономического роста по подушевому ВВП (в данном случае речь о цене не идет) [Мировая экономика…, 2003, с. 515–516]. Следовательно, экономическая стратегия руководства страны на «взлете» советской индустриальной системы – при всех издержках и «сбоях» – оказалась весьма результативной. Однако сразу возникает вопрос: как оценить ее региональный аспект? Одни исследователи утверждают, что курс на «опережающее», «комплексное» развитие Урала, Сибири и Дальнего Востока отвечал и отвечает коренным интересам страны [От идеи Ломоносова…, 2009]. Другие это отрицают. Они считают, что освоению «наших необъятных просторов мы отдаем больше, чем получаем от них…» И если бы «за Уралом плескался океан», то Россия уже давно бы была «полноправным членом сообщества цивилизованных стран». Другими словами, избранный вектор региональной политики имел самые негативные последствия для развития страны. Отсюда – идея «сжатия» ее экономического пространства [Трейвиш, Шу-пер, 1992; Пивоваров, 2002; Hill, Gaddy, 2003; Торнтон, 2015, с. 1123–1169]. Так что оценка советской стратегии «опережающего» развития восточных районов сохраняет актуальность. Думается, что это имеет не только познавательное, но и практическое значение.
Хозяйственное освоение восточных районов России в ХХ в. можно трактовать как последовательность «индустриальных волн», вовлекавших в оборот ресурсы, необходимые для ускоренного развития экономики, наращивания ее военно-промышленной мощи и, в конечном счете, укрепления геополитических и военно-стратегических позиций государства. Соответствующие планы начали разрабатываться еще на рубеже XIX–XX вв. Но на практике, за исключением строительства Транссиба, мало что было сделано. Эти идеи «по наследству» перешли советской власти [Зубков, 2012, с. 84–88]. Однако ее экономическая политика не была простым «повторением пройденного». С одной стороны, советское руководство, как и «имперские модернизаторы» связывали перспективы страны с ее индустриализацией. Важная роль отводилась вовлечению в хозяйственный оборот природных ресурсов восточных районов. С другой стороны, в силу иной политико-экономической организации общества пути и способы наращивания индустриальной мощи имели существенные отличия. Жесткая властная вертикаль, монопольное положение государственной собственности, централизованное распределение ресурсов, административные механизмы координации хозяйственной деятельности, свойственные периоду индустриального «взлета», позволяли ставить самые амбициозные цели и добиваться их реализации, не считаясь ни с какими издержками.
Главным инструментом, «основным методом» осуществления такой стратегии считалось народнохозяйственное планирование. В действительности оперативные (годовые) планы представляли лишь один из элементов управления экономикой. А перспективные (пятилетние) содержали нереальные допущения и в большей мере выполняли пропагандистскую функцию. Отсюда постоянная корректировка их заданий. Как следствие, достигнутые результаты заметно расходились с первоначально утвержденными показателями (см. [Zaleski, 1980, p. 483–486; Грегори, 2006, с. 154–163] и др.). Тем не менее планирование играло важную роль в управлении экономикой. Оно фиксировало долгосрочные приоритеты ее развития. Конкретные же производственные задания, перечень и сроки реализации инвестиционных проектов были вторичны. При сохранении общего курса они могли меняться в достаточно широком диапазоне.
Такая технология планирования придавала управлению экономикой необходимую гибкость. Ее приоритеты определялись решениями «партии и правительства» (а по существу – узким кругом политического руководства), казалось бы, по частным вопросам. Но под них подстраивались при составлении (корректировке) и перспективных, и текущих планов. Так, как бы явочным порядком устанавливались экономические цели национального значения. И чем жестче была управленческая вертикаль, тем больше достигнутые результаты соответствовали первоначальным замыслам. В отсутствие рыночных отношений это являлось залогом успеха. Сказанное подтверждают масштабы роста производства и изменения в его отраслевой и территориальной структуре. Правда, государственная статистика существенно искажала реальную картину [Ханин, 1991; Кудров, 1997]. Вместе с тем с учетом альтернативных расчетов она всё же дает представление об изменении места и роли восточной макрозоны в экономике страны.
Эти особенности народнохозяйственного планирования в полном объеме проявились в годы «сталинской индустриализации». Выступая на XVI конференции ВКП(б) (апрель 1929 г.) с обоснованием плана первой пятилетки, председатель ВСНХ СССР В. В. Куйбышев утверждал: «Нам нужно во что бы ни стало, в короткий исторический период догнать и перегнать своих капиталистических врагов. Иначе построение социализма не может быть обеспечено» (Шестнадцатая конференция ВКП(б), 1962, с. 56, 60, 621–627). В «территориальном разрезе» ставились две взаимосвязанные задачи. Во-первых, «приближение» промышленности к источникам сырья, что по расчету планировщиков должно было повысить эффективность производства. И, во-вторых, создание в «окраинных», «отсталых» районах «индустриальных очагов», обещавшее повысить в составе их населения долю «промышленного пролетариата». Это считалось действенным способом упрочения социальной базы советской власти в наиболее проблемных в политическом отношении регионах (Пятилетний план, 1929, с. XIV–XVIII).
Но в строительной программе, являвшейся «центральным звеном» пятилетнего плана, преимущество отдавалось «старопромышленным районам»: центральному во главе с Моск- вой, Ленинграду и Донецко-Криворожскому бассейну. В тексте плана восточная макрозона как единое целое специально не выделялась. Она отождествлялась с «окраинными» сельскохозяйственными районами, с «отсталыми» национальными областями и республиками. Но к таковым также относился ряд регионов в других частях страны. Поэтому ставилась задача одновременного формирования «индустриальных очагов» от Белоруссии и Карелии на западе до Кавказа и Средней Азии на юге, Кузнецко-Алтайского региона и Бурят-Монголии на востоке. Такая стратегия входила в противоречие с планами ускоренной индустриализации, поскольку вела к распылению сил и средств. И уже в начале пятилетки провели корректировку ее заданий. Она предусматривала масштабное строительство предприятий черной металлургии на минеральном топливе и смежных производств в районах Урала и Кузбасса. Эта идея обсуждалась еще до революции, а затем – в 1920-е гг. [Михеев, 2024, с. 53–57]. Но только согласно откорректированным заданиям первой пятилетки перешли к ее реализации.
В мае 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о создании в районе Урало-Кузбасса «второй угольно-металлургической базы СССР» (КПСС в резолюциях, 1970, с. 398–404). Так было положено начало реализации первой советской комплексной межотраслевой и межрегиональной программы. Ее задания проходили по отдельным разделам «уточненного» пятилетнего плана. Но в совокупности они предусматривали формирование в районах Урала, Юго-Западной Сибири и Северного Казахстана единого комплекса предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности, тяжелого машиностроения, основной химии, электроэнергетики. В результате капиталовложения сюда были увеличены в три раза по сравнению с начальным вариантом пятилетки за счет уточнения общесоюзной строительной программы [Планирование…, 1986, ч. 1, с. 136].
Эти планы в июне 1930 г. утвердил XVI съезд ВКП(б). Одновременно он уточнил само понятие «восточные районы». К ним отнесли Урал, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и Среднюю Азию (XVI съезд Всесоюзной коммунистической партии, 1930, с. 495). Курс на их опережающее развитие был закреплен вторым пятилетним планам. Но в его проектировках приоритет по-прежнему отводился наращиванию производственной базы Урало-Куз-басса. Сюда планировалось направить четверть всех капиталовложений в народное хозяйство и более трети – в тяжелую индустрию (Второй пятилетний план, 1934, с. 318). Правда, нарастание диспропорций в экономике в результате безоглядного стремления максимизировать темпы ее роста побудили руководство страны к проведению более умеренной экономической политики [Девис, Хлевнюк, 1994]. Но это не означало пересмотра основ региональной стратегии.
Выступая на XVIII съезде партии (март 1939 г.) с обоснованием заданий третьей пятилетки председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский подчеркивал, что «основная линия размещения» производительных сил остается неизменной и заключается в их форсированном развитии на востоке страны (XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1939, с. 337). Но в третьей пятилетке лишь Сибирь (прежде всего Восточная) и Дальний Восток получали заметное преимущество в планируемых темпах наращивания капитальных вложений по сравнению с другими восточными районами. Такое сужение приоритетов практической политики было вполне объяснимо. Усиление военной угрозы потребовало дополнительных вложений в развитие оборонной промышленности. А она в основном располагалась в европейской части страны. Однако ни чрезвычайные обстоятельства, ни отклонение фактического развития от плановых проектировок не отменяло главного. За предвоенные пятилетки удалось добиться выдающегося сдвига индустрии на восток страны. Если в 1928 г. доля Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана составляла 6–7 % от общесоюзного производства промышленной продукции [Планирование…, 1986, т. 1, с. 25], то в 1940 г. – уже 15,7 % (6,6, 4,1, 1,6, 3,4 % для названных регионов соответственно) 1.
При том, что как по данным советской статистики, так и по альтернативным расчетам темпы ее роста были исключительно высокие [Кудров, 1997, с. 53]. Но дело не только в динамике количественных показателей. Советская индустриальная система, в том числе благодаря ускоренному наращиванию производства на востоке, стала качественно иной. Она, опираясь на собственную сырьевую базу, обрела возможность удовлетворять основные инвестиционные потребности экономики и обеспечивать вооруженные силы современной техникой. Это позволяло строить самые амбициозные планы на будущее. И, несмотря на все сложности предвоенного времени, к их разработке приступили уже в третьей пятилетке.
Необходимость органичного сочетания годовых, пятилетних и генеральных планов обсуждалась с середины 1920-х гг. Считалось, что начинать народнохозяйственное планирование нужно с составления последнего, обосновывающего долгосрочные инвестиционные программы. Однако этот замысел тогда не удалось реализовать. Только в конце 1930-х гг. новое поколение плановиков вернулось к идее разработки Генплана. Но они видели в нем не столько управленческий, сколько политический документ. Главным для них было обосновать темпы и пропорции развития экономики, подтверждавшие реальность достижения целей «генеральной линии партии» на построение коммунизма [Артемов, 2013, с. 156, 157].
К работе над Генпланом приступили в декабре 1940 г. А уже в апреле следующего года был подготовлен его проект. Целевая установка Генплана определялась как решение «поставленной товарищем Сталиным» задачи «перегнать главные капиталистические страны в производстве на душу населения чугуна, стали, топлива, электроэнергии, машин и других средств производства и потребления» 2. В соответствии с ней строились все плановые расчеты. Устанавливались задания для промышленности в отраслевом и территориальном разрезе, объем капиталовложений, параметры денежного обращения, развития социальной инфраструктуры, воспроизводства рабочей силы и т. д. Посредством метода «балансовых прикидок» и «балансовых увязок» полученные показатели согласовывались между собой. За 15 лет (с 1942 по 1957 г.) выпуск промышленной продукции намечалось увеличить в 3,2 раза, а сельскохозяйственной – в 2,5 раза. Опережающими темпами предусматривалось наращивание производства в восточной макрозоне страны. Ее удельный вес в валовой продукции промышленности страны планировалось довести до 29–30 % 3. К концу планового периода здесь намечалось добывать 48–49 % угля, производить 36–38 % цемента, 34 % чугуна, столько же электроэнергии, выпускать 28–29 % продукции металлообработки.
С учетом опыта реализации программы Урало-Кузбасса в каждом экономическом районе намечалось «всестороннее комплексное развитие хозяйства». Межрегиональные связи допускались только «по строго необходимому минимуму продукции и сырья, производство которых связано с наличием особо благоприятных условий и ресурсов тех или иных районов». Для Урала и Западной Сибири это была горнодобывающая промышленность, черная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленность, отдельные подотрасли тяжелого машиностроения. Для Дальнего Востока и Восточной Сибири – добыча полезных ископаемых, цветная металлургия и металлургия редких металлов, лесная и рыбная отрасли. Казахстан и Среднюю Азию намечалось специализировать на добыче руд цветных металлов, производстве хлопка и животноводстве [Там же, с. 158].
По понятным причинам – начало войны – завершение работы над Генпланом пришлось отложить. К работе над ним по решению политбюро ЦК ВКП(б) вернулись, когда обозначились успехи в послевоенной перестройке экономики. И уже к декабрю 1948 г. был подготовлен его «предварительный вариант» на 20 лет. Генплан, как и его довоенный аналог, должен был конкретизировать положения новой программы партии, программы «построения комму- нистического общества». Поэтому по целевым установкам, методологии расчета плановых заданий они принципиально ничем не отличались 4.
Имевшиеся расхождения в показателях объема и темпах роста производства, «совершенствовании» его отраслевой и территориальной структуры объяснялись различиями в стартовых условиях. В частности, учитывалось, что в годы войны удельный вес восточной макрозоны в общесоюзном выпуске промышленной продукции вырос почти в два раза в результате эвакуации сюда промышленных предприятий. Поэтому по сравнению с предвоенным Генпланом намечались более «скромные» изменения в размещении производства. С 1951 по 1970 г. доля восточных районов в валовой продукции промышленности должна была увеличиться с 28,6 до 33,7 % 5. Приоритет по-прежнему отдавался развитию отраслей их специализации: электроэнергетике, черной и цветной металлургии, горнодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности, тяжелому машиностроению, основной химии и электрохимии, производству хлопка. Одновременно ставилась задача резко повысить продуктивность сельского хозяйства (производство зерна, животноводство) и «создать» в каждом восточном районе «отрасли промышленности, удовлетворяющие потребности населения в продовольствии и предметах массового потребления» 6. Естественно, возникал вопрос: как обеспечить такое расширение производственных мощностей рабочей силой? Решение проблемы виделось в «перемещении» за двадцать лет в районы Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северного Казахстана девяти с половиной миллионов человек из европейской части страны 7. Правда, разработчики Генплана не уточняли, каким способом намечается добиться такого результата, чем мотивировать людей переселяться в общем-то в плохо «обжитые» места?
Генплан не утвердили в качестве директивного документа. Естественно, возникает вопрос: почему? В советской и в постсоветской историографии прекращение работы над Генпланом, как правило, связывают с объявлением его руководителя Н. А. Вознесенского «врагом народа». Действительно, это сыграло свою роль. Но думается, что главные причины всё же заключались в другом. Во-первых, Генплан создавался для конкретизации стратегии коммунистического строительства, которую предполагалось изложить в новой программе партии. Однако ее разработчики не смогли сформулировать системное представление, каким должно быть новое общество, каковы пути достижения «заветной» цели. В результате работа над программой была фактически заморожена [Журавлев, Лазарева, 2017, с. 7–9]. Поэтому задача доведения Генплана до стадии полной готовности потеряла политическую актуальность. Во-вторых, значительно снизилась и ее практическая ценность. Втягивание страны в «холодную войну» потребовало сосредоточить усилия на наращивании оборонных возможностей. В такой ситуации разработка долгосрочных планов создания «материальной базы коммунизма», «технического перевооружения» производства, «совершенствования» его территориальной структуры, «комплексного развития» регионов и т. д. выглядела напрасной тратой сил и времени. Так, руководство атомным проектом, несмотря на решение политбюро ЦК ВКП(б), сразу же отказалось участвовать в подготовке Генплана. Свою позицию оно аргументировало «неприемлемым отрывом академика Курчатова и других нужных людей в ущерб задачам, которые предстоит решать в ближайшие месяцы» [Артемов, 2017, с. 133, 134]. Судя по всему, большинство руководителей промышленности разделяли эти взгляды. А в отсутствие поддержки с их стороны завершение работы над Генпланом не имело перспектив.
Конечно, сталинское руководство осознавало, что безудержное наращивание военной мощи ведет к перенапряжению экономики и социальным издержкам. Но реальные шаги по корректировке принятого курса были сделаны только после смерти вождя, в рамках общей либерализации режима. Сначала они носили ситуативный характер и предусматривали смягчение наиболее острых диспропорций. За счет оптимизации военно-стратегического и народнохозяйственного планирования ограничили закупки обычных видов вооружения и вложения в военно-промышленный комплекс, началось сокращение численности армии. Был заморожен ряд масштабных инвестиционных проектов. Сэкономленные средства перенацелили на укрепление материальной базы сельского хозяйства, развитие потребительского сектора промышленности, улучшение материального положения населения. И это сразу же положительно сказалось на экономической динамике. Было, однако, ясно, что «неотложные меры» могут дать лишь краткосрочный эффект. Для закрепления и развития достигнутых успехов требовалась продуманная стратегия на перспективу. Работа в этом направлении началась в середине 1950-х гг. Тогда же приняли ряд постановлений, направленных на ускорение научно-технического прогресса, «подтягивание» темпов роста производств, работающих на потребительский рынок, децентрализацию управления экономикой [Артемов, 2022, с. 189–190].
Новый курс закрепил ХХ съезд партии. По сути, в принятом им шестом пятилетнем плане ставилась задача дополнить военно-промышленную направленность советской экономики потребительски ориентированной составляющей. Но ее решение сразу же столкнулось с серьезными трудностями. Для их преодоления в мае 1957 г. запустили «совнархозовскую» реформу. Она предусматривала замену отраслевых органов управления промышленностью и строительством на территориальные. Декларировалось, что это позволит избавиться от «пут» предельной «централизации и регламентации» как главного препятствия «в деле разумного ведения хозяйства», будет способствовать ускорению научно-технического прогресса, оптимизации территориальной структуры производства и т. д. (Президиум ЦК КПСС, 2006, т. 2, с. 522–539). Однако уже в октябре того же года Президиум ЦК КПСС констатировал, что «имеющиеся в народном хозяйстве диспропорции» неразрешимы в рамках плана шестой пятилетки. Его задания «не обеспечивают» формирования новых отраслей промышленности, «правильного размещения производства» и «комплексного развития отдельных экономических районов». Отсюда следовало радикальное решение: не дожидаясь окончания шестой пятилетки разработать семилетний план развития народного хозяйства на 1959– 1965 гг. и уже в нем предусмотреть ликвидацию «узких мест» в экономике (Президиум ЦК КПСС, 2006, т. 1, с. 211, 214, 215, 266; т. 2, с. 689–696).
В частности, выдвигалось требование обеспечить «освоение в более крупных масштабах природных богатств восточных районов страны». И это нашло отражение в контрольных цифрах семилетки, утвержденных XXI съездом партии (январь – февраль 1959 г.). Они предусматривали более высокие темпы роста промышленности в восточной макрозоне – прежде всего отраслей ее специализации – по сравнению с проектировками шестой пятилетки. Сюда планировалось направить свыше 40 % общесоюзного объема капитальных вложений, прежде всего в развитие базовых отраслей промышленности. Иначе говоря, намечался новый «сдвиг» производительных сил на восток страны (Внеочередной XXI съезд, 1959, т. 2, с. 471– 478). Разумеется, учитывался и опыт Второй мировой войны. Он свидетельствовал о важности наращивания производства во внутренних регионах для повышения устойчивости экономики в чрезвычайных обстоятельствах. Но главная идея семилетки заключалась в создании экономических предпосылок выполнения программы построения коммунизма, подготовку которой возобновили по инициативе Н. С. Хрущева.
В концептуальном отношении она повторяла подходы, наработанные в конце 1940-х гг. Дословно совпадали даже ее отдельные ключевые формулировки. Экономическая часть программы опиралась на Генеральную перспективу развития народного хозяйства СССР. Она, как и сталинский Генплан, должна была обосновать реальность «построения коммунистического общества». Под это «подгонялись» все плановые показатели. Отсюда появлялись такие фантастические цифры, как рост за двадцать лет национального дохода в пять раз, промыш- ленного производства – в шесть раз, производительности труда только за первые десять лет – в два раза, реальных доходов на душу населения – в три с половиной раза, увеличение доли Сибири и Дальнего Востока в общесоюзном выпуске промышленной продукции чуть ли не в два раза. Многие руководители экономики понимали нереальность таких планов. Поэтому Генеральную перспективу не утвердили в качестве директивного документа. Но по настоянию Н. С. Хрущева ее основные показатели вошли в новую программу партии, принятую XXII съездом КПСС [Баканов, Фокин, 2019, с. 429–436; Водичев, Аблажей, 2023, с. 142–147].
Неразумность такого решения стала очевидна практически сразу. Уже в самом начале семилетки обозначились «сбои» в выполнении плановых заданий. Проблему пытались решить путем новых административных реорганизаций. По сути, была запущена частичная рецентрализация управления экономикой (создание отраслевых госкомитетов, являвшихся неким аналогом хозяйственных министерств, правда с урезанными функциями, укреплением центрального звена руководства за счет образования при президиуме Совмина СССР Комиссии по военно-промышленным вопросам, ВСНХ СССР и т. д.). Но это лишь усугубило проблемы. В октябре 1964 г. Президиум ЦК КПСС констатировал, что «экономика по ряду важнейших направлений резко ухудшила свои показатели», за восемь предшествующих лет произошло «небывалое в истории ее развития снижение темпов прироста». Ответственность за это возложили на Н. С. Хрущева, будто бы допустившего «крупные ошибки» в осуществлении «генеральной линии партии», и отправили его в отставку (Никита Хрущев, 2007, с. 185–186, 217–231, 239–252, 255–257).
В действительности дело было не только в «волюнтаризме» и «зазнайстве» Хрущева. Первопричиной падения темпов экономического роста стало втягивание страны на рубеже 1950–1960-х гг. в избыточный с точки зрения необходимости и достаточности виток гонки вооружений, прежде всего ракетно-ядерных сил. Таких масштабов их наращивания, как в семилетке, не наблюдалось вплоть до окончания «советского века». Это потребовало огромных вложений в развитие ядерно-оружейного комплекса и ракетно-космической отрасли. В результате в «рабочем порядке» была перераспределена значительная часть ресурсов, предназначавшихся для создания новых отраслей и технического перевооружения производства, расширения его сырьевой базы, «комплексного освоения» восточных районов и т. д. [Артемов, 2022, с. 190–198]. Но всё же главную роль в затухании темпов роста советской экономики, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, сыграло снижение ее управляемости. На высшем политическом уровне фактически признали, что инициированные Хрущевым реорганизации не оправдали надежд. Поэтому сразу после его смещения вернулись к «проверенному принципу» ведомственного руководства экономикой. Одновременно запустили так называемую «косыгинскую реформу». Она предусматривала усиление централизованного начала в организации производства в сочетании с расширением хозяйственной самостоятельности предприятий и повышением их материальной заинтересованности в результатах своей деятельности. Однако в отсутствие реальных рыночных стимулов и санкций принятые меры привели лишь к разбалансированию экономики. Другим непредвиденным последствием «косыгинской реформы» стало расширение возможностей для реализации частных (ведомственных региональных, групповых) интересов в ущерб общегосударственным [Митрохин, 2023, с. 99, 114–130]. По сути, с восстановлением отраслевой схемы управления производством произошла подмена государственного централизма на централизм ведомственный. Это неизбежно вело к рассогласованию принимавшихся на «самом верху» решений и их выполнения.
Так было и с «контрольными цифрами» по увеличению промышленного производства в восточных районах. Сохранилось устойчивое отклонение фактических результатов их развития от намечавшихся проектировок. Причина заключалась в сдерживании масштабов капиталовложений в восточной макрозоне отраслевыми органами планирования и управления. Дело в том, что увеличение производства по экономическим районам являлось расчетным показателем и не учитывалось при оценке их деятельности. А поскольку текущие издержки производства, сроки окупаемости капиталовложений в восточной макрозоне были выше среднесоюзных, то они стремились ограничить здесь свою активность [Тенденции…, 1980, с. 51–53]. И только сильный административный нажим мог заставить ведомства действовать иначе. Но даже в сталинской командной экономике такого в полной мере не удавалось сделать. А с либерализацией режима и ослаблением управленческой вертикали при росте масштабов и усложнении структуры экономики это стало еще труднее. Не помогло и сокращение числа приоритетных территорий. Теперь страна в предплановых работах членилась на Европейскую часть вместе с Уралом, Сибирь и Дальний Восток, Казахстан и Среднюю Азию. И только две последние макрозоны отождествляемые с восточными районами, имели статус территорий «интенсивного хозяйственного освоения» [Особенности…, 1980, с. 19].
Но планы по их «ускоренному», «комплексному» развитию всё равно не выполнялись. Правда, ситуация была лучше, чем в конце «хрущевского десятилетия». В 1955–1965 гг. удельный вес Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии в общесоюзном выпуске промышленной продукции практически не изменился (15,3 и 16,5 % соответственно) 8. К 1980 г. он всё же вышел на уровень 20 % [Планирование…, 1986, ч. 2, с. 75] и вместе с Уралом составил почти 30 %, т. е. столько же, сколько намечалось на 1957 г. в проектировках предвоенного Генплана. Но такое увеличение произошло за счет освоенческих проектов, осуществлявшихся по транспортно-энергетической формуле (освоение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, формирование территориально-производственных комплексов Ангаро-Енисейского региона, строительство Байкало-Амурской магистрали) [Кулешов и др., 2009, с. 5, 6]. Иначе говоря, реализовалась ресурсно-ориентированная модель развития восточных районов (если не принимать во внимание военно-промышленную составляющую). В ее оправдание утверждалось, что уже в недалеком будущем произойдет переход к «более рациональному территориальному распределению общественного труда» и «быстрое нарастание» их «комплексности» [Экономический строй, 1984, с. 454, 455]. Нетрудно заметить: даже на «излете» советской эпохи при определении перспектив развития восточных районов фактически использовалась аргументация сорокалетней давности. Тем не менее, вряд ли можно говорить о принципиальной неспособности «социалистической системы хозяйствования» обеспечить устойчивое, поступательное развитие экономики. Всё же главная причина отклонения фактической траектории ее развития от планируемой, как и низкая эффективность производства, заключалась в стойком нежелании «поступаться принципами» при реформировании «хозяйственного механизма». Если же говорить о реальном «сдвиге производительных сил» на восток страны, то он был весьма значительным. По времени это совпало с периодом бурного «взлета» советской индустриальной системы. Сказанное позволяет сделать вывод о взаимосвязи высоких темпов роста советской экономики с «интенсивным хозяйственным освоением» восточных территорий.
Список литературы Восточные районы в экономической стратегии на "взлете" советской индустриальной системы
- Артемов Е. Т. Восточные регионы в проектировках предвоенного Генерального хозяйственного плана // ЭКО. 2013. Т. 43, № 1. С. 151–166.
- Артемов Е. Т. Атомный проект в координатах сталинской экономики. М.: Политическая энциклопедия, 2017. 343 c.
- Артемов Е. Т. Несостоявшееся ускорение: военно-стратегический фактор в экономической политике Н.С. Хрущева // Российская история. 2022. № 4. С. 186–198.
- Баканов С. А., Фокин А. А. «А при коммунизме всё будет…»: государственное планирование уровня жизни советского человека к 1980 г. // Новейшая история России. 2019. Т. 9, № 2. С. 420–436.
- Водичев Е. Г., Аблажей Н. Н. Стратегический план построения коммунизма в СССР: амбиции и идеология хрущевской эпохи // ЭКО. 2023. № 2. С. 137–151.
- Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М.: РОССПЭН, 2006. 400 с.
- Девис Р., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // Отечественная история. 1994. № 3. С. 92–108.
- Журавлев В. В., Лазарева Л. Н. Складывание экономической модели позднего сталинизма (1947–1953 гг.) // Сталинское экономическое наследие: планы и дискуссии. 1947–1953 гг.: Документы и материалы. М., 2017. С. 5–26.
- Зубков К. И. Прошлое и будущее Сибири: регулятивная роль геополитического фактора // ЭКО. 2012. № 1 (45). С. 73–90.
- Кудров В. М. Советская экономика в ретроспективе: опыт переосмысления. М.: Наука, 1997. 303 с.
- Кулешов В. В., Суслов В. И., Селиверстов В. Е. Стратегические установки долгосрочного развития Сибири // Регион: экономика и социология. 2009. № 2. С. 3–22.
- Маркевич А., Михайлова Т. Экономическая география России // Экономика России. Оксфордский сборник. М., 2015. Т. 2. С. 1053–1095.
- Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И. С. Королева. М.: Экономист, 2003. 604 с.
- Митрохин Н. Очерки советской экономической политики в 1965–1989 годах. М.: НЛО, 2023. Т. 1. 504 с.
- Михеев М. В. Урал и Украина в системе межрегиональных противоречий 1920–1930-х гг. (начало) // Историко-географический журнал. 2024. Т. 3, № 1. С. 46–63.
- Особенности и проблемы размещения производительных сил СССР в период развитого социализма / Отв. ред. Н. Н. Некрасов. М.: Наука, 1980. 275 с.
- От идеи Ломоносова к реальному освоению территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока / Под общ. ред. А. И. Татаркина, В. В. Кулешова, П. А. Минакира. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2009. 1226 с.
- Пивоваров Ю. Л. Сжатие «экономической ойкумены» России // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 4. С. 63–69.
- Планирование размещения производительных сил СССР. Осуществление политики КПСС на этапах социалистического строительства / Председатель редколл. В. П. Можин. М.: Экономика, 1986. Ч. 1. 304 с.; Ч. 2. 384 с.
- Тенденции экономического развития Сибири (1961–1975 гг.) / Отв. ред. Р. И. Шнипер. Новосибирск: Наука, 1980. 255 с.
- Торнтон Д. Региональные проблемы России на примерах Сибири и Дальнего Востока // Экономика России. Оксфордский сборник. М., 2015. Т. 2. С. 1123–1169.
- Трейвиш А., Шупер В. Теоретическая география, геополитика и будущее // Свободная мысль. 1992. № 12. С. 23–33. Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск: Наука, 1991. 270 с.
- Экономический строй социализма / Рук. авт. колл. Г. М. Сорокин. М.: Экономика, 1984. Т. 2: Социалистическое расширенное воспроизводство (закономерности, интенсификация, эффективность). 623 с.
- Hill F., Gaddy C. The Siberian Curse. How Communist Planners Left Russia. Out in the Cold. Washington: Brookings Institution Press, 2003. 327 p.
- Rostow W. W. The Take-off into Self-Sustained Growth // Social Change, Sources, Patterns and Consequences. New York, 1973. P. 285–300.
- Zaleski E. Stalinist Planning for Economic Growth, 1933–1952. Chapel Hill: Uni. of North Caroli-na Press, 1980. 788 p.