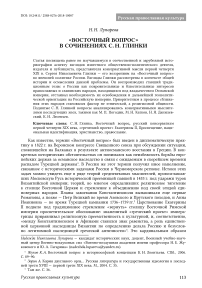Восточный вопрос в сочинениях С. Н. Глинки
Автор: Н.Н. Лупарева
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Русская православная культура
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена ранее не изучавшемуся в отечественной и зарубежной историографии аспекту взглядов известного общественно-политического деятеля, издателя и публициста, представителя консервативной мысли первой четверти XIX в. Сергея Николаевича Глинки — его воззрениям на «Восточный вопрос» во внешней политике России. Взгляды Глинки рассмотрены в контексте общей истории и осмысления данной проблемы. Он воспроизводил ставший традиционным тезис о России как покровительнице и блюстительнице интересов православных и славянских народов, находящихся под владычеством Османской империи, отстаивал необходимость их освобождения и дальнейшей геополитической ориентации на Российскую империю. Приоритетным в процессе сближения этих народов становился фактор не этнической, а религиозной общности. Поднятые С. Н. Глинкой вопросы анализировались консервативными мыслителями последующих эпох, такими как М. П. Погодин, М. Н. Катков, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев.
С. Н. Глинка, Восточный вопрос, русский консерватизм первой четверти XIX века, «греческий проект» Екатерины II, Просвещение, национальная идентификация, христианство, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/140240239
IDR: 140240239 | DOI: 10.24411/2588-0276-2018-10007
Текст научной статьи Восточный вопрос в сочинениях С. Н. Глинки
Как известно, термин «Восточный вопрос» был введен в дипломатическую практику в 1822 г. на Веронском конгрессе Священного союза при обсуждении ситуации, сложившейся на Балканах в результате антиосманского восстания в Греции. В конкретных исторических обстоятельствах он понимался как неизбежность борьбы европейских держав за османское наследство в связи с ожидаемым в скорейшем времени распадом Турецкой державы1. В России же этот термин получил иное наполнение, связанное с историческими задачами России в Черноморском регионе. Истоки этих задач можно увидеть еще в ряде теорий средневековых мыслителей, провозглашавших Московскую Русь исторической преемницей павшей в 1453 г. под ударами турок Византийской империи; теорий, во многом определивших религиозное тяготение к столице Восточной Церкви и стремление к объединению под своей эгидой единоверных народов. Планы завоевания Константинополя вынашивали еще первые Романовы, а позже — Петр Великий во время Азовского и Прутского походов, и Анна Иоанновна — во время Турецкой кампании 1736–1739 гг.2 Царствование Екатерины II подвело под традиционное стремление «вернуть» столицу Восточной Римской империи просветительское обоснование: знаменитый «греческий проект» императрицы приравнивал религиозную преемственность к культурной, и, соответственно, «между Константинополем и Афинами ставился знак равенства, а роль единственной церковной наследницы Византии по определению делала Россию и безуслов но легитимной наследницей греч еской античности»3. Это кардинальным образом
меняло представление об исторической роли России: традиционное суждение о том, что высокие достижения греческой цивилизации наследовал Рим, через него Западная Европа, и только потом — из рук Европы Россия, теряло смысл, и Россия оказывалась напрямую связана с Грецией и ее наследием. Дальнейшее развитие этой мысли приводило к постановке вопроса о культурном и даже политическом приоритете России в Европе4.
Так что к 1820-м гг., когда вслед за греческим восстанием разразилась очередная русско-турецкая война 1828–1829 гг., «Восточный вопрос» в России имел и давнюю историю, и богатое, многослойное смысловое наполнение. Однако рассматривался он уже в иных исторических условиях — в условиях активного национального строительства, охватившего Европу после наполеоновских войн5. Теперь определение позиции государства в геополитическом пространстве оказывалось тесно связано с процессом национальной идентификации.
Одним из современников этих событий был Сергей Николаевич Глинка (1775/76– 1847) — известный в первой половине XIX в. литератор, общественный деятель, историк, публицист. Особую известность ему принесло издание патриотического журнала консервативного направления «Русский вестник» (1808–1820 и 1824 гг.), и пропагандистская деятельность по созданию Московского ополчения во время Отечественной войны 1812 г.6 На рубеже 20–30-х гг. XIX в. С. Н. Глинка не смог остаться равнодушным к происходившим на южных рубежах Отечества событиям, и написал ряд работ, в которых касался роли России в разрешении «Восточного вопроса».
Попытке обосновать правомерность греческого восстания и российского влияния на территории Греции и Балкан были посвящены работы «Поэма о нынешних происшествиях или воззвание к народам о единодушном восстании против турок. Сочинение Вольтера. Подражание Сергея Глинки»7, «Обозрение внутренности Турции Европейской, почерпнутое из древних и новых писателей»,8 «Картина историческая и политическая новой Греции»9, «Картина историческая и политическая Порты Оттоманской, от начала существования поколения турецкого до взятия Константинополя и до падения греческой державы, с присовокуплением о войнах турков со времени вторжения их в Европу до 1830 года»10.
С точки зрения С. Н. Глинки, Греция — родина одной из величайших цивилизаций, положившей начало европейской образованности, поэтому европейские страны в долгу перед Грецией и должны всеми силами способствовать ее восстановлению11. Глинка утверждал, что в политическом отношении эта страна изначально была обречена, т. к. «разнообразное правление Греков удерживало их… в вечном младенчестве политическом»12. Греческие города-государства «воспалялись властолюбием и угрожали единоплеменникам своим теми же цепями», что и внешний неприятель. В итоге «целые поколения братьев гибли в крови братий своих»13. История же Византийской или Восточной Римской империи, явившейся наследницей Древней Греции, свидетельствует о том, что «тлетворные семена разрушения, при самом основании… пали на ее землю»14, т. к. она восприняла политический опыт своей западной предшественницы: «Вместе с Римским владычеством, Константин в новую свою столицу переселил и ту роскошь, которая сперва заразила нравы Римлян, потом расторгла все связи общественные и наконец подвергла Рим ярму Неронов и Калигул»15. К моменту турецкого завоевания «в Империи Греческой час от часу более ознаменовывались бедственные признаки… падения. Личная корысть заменила стремление к пользе общей. Государство, со всех сторон тревожимое врагами», оказалось не готовым к противостоянию, т. к. греки «чем единодушно вступаться за страну отеческую, спорили о том, кто скорее ухватит участок от области потрясенной»16. Глинка акцентирует неслучайное, с его точки зрения, совпадение: в момент, когда «держава Греческая час от часу более клонилась к падению», «Россия приготовлялась свергнуть с себя иго владычества Татарского»17.
Изображенная С. Н. Глинкой Турция вполне соответствует взгляду, выработанному европейской просветительской традицией. Империя Османов рассматривается как деспотическая страна, где правительство помышляет только о том, «чтобы все стонало под ярмом его и не дерзало б роптать на насилие… Турецкий деспотизм основан на острии меча. Залогом спокойствия его — безмолвие гробовое. Над частными людьми смерть парит повсеместно. Главное преступление — богатство; закон — произвол султана; а судьи — палачи»18. Население Турции деградирует и в физическом, и в нравственном отношении: «Хотя турки от природы сложения крепкого и сильного, — писал Глинка, — но они порабощены привычкам, заграждающим пути к народонаселению. Сидячая жизнь, многоженство, неумеренное употребление опиума, курение табака и другие развратные излишества препятствуют размножению семейств до такой степени, что рождения вознаграждают только обыкновенный ход смерти… племени человеческому угрожает истребление в той самой стране, где природа все доставила, но где люди ничем не умеют пользоваться»19. В Османской империи не развиваются ни земледелие, ни промышленность20. «Деньги есть душа Турции», «преимущественное право всех должностных людей есть право грабежа. Султан не только смотрит на сей грабеж сквозь пальцы, но, как будто бы и покровительствует оному. Он знает, что по властительному произволу своему может всегда присвоить себе богатство, награбленное его чиновниками»21.
Глинка отмечал, что под ярмом турецкого владычества происходит постепенная деградация греков22. В качестве причин этого явления он называет губительный пример «развратной» жизни турок23 и угнетение, которому подвергли греков завоеватели. Так, «даже потомки древних Греческих порфироносцев должны уступать дорогу притеснителям своим»24, «лучшим удовольствием» турки почитают «осыпать ругательствами Христианина»25, но главное, с точки зрения Глинки, орудие подавления греков — это определенная система воспитания, направленная на то, «чтобы отроков христианских переводить от Евангелия к Алкорану»26, и таким образом отрывать их от своей религиозной традиции.
Глинка был уверен в том, что всем этим негативным явлениям придет конец, как только Греция освободится от турецкого владычества. При этом он настаивал на том, что Греция сама, без чьей-либо посторонней помощи — в том числе и без помощи России — должна вести борьбу за национальное освобождение; так, как это было в древние периоды ее истории, когда она смогла отразить «сама собою и все силы Азии и покушения Африки. Она спасена была единодушием сынов своих»27. Одновременно Глинка считал Грецию территорией, входящей в ареал российского влияния, так же, как и славянские по своему происхождению народы, находящиеся в зоне турецкого владычества. Так, в упомянутой выше «Поэме о нынешних происшествиях или воззвании к народам о единодушном восстании против турок», перечислив тяготы угнетенных турками Греции, Сербии, Черногории, Глинка восклицает:
Мы братья! Братьям ли разлукою томиться?
Любовь влечет к любви; спешим соединиться.
Под кровом благости приятно отдыхать;
Россия нежная своим народам мать!28
Здесь важно отметить, что упомянутое Глинкой «братство» народов предполагает и этническое родство, и культурно-историческое, в данном случае основанное на общности религии, а в случае с балканскими славянами — и наречия. А также тот факт, что в изображаемом Глинкой братстве России все же отводится особое место — покровительницы славянских и православных народов, блюстительницы их интересов.
Восточную тему Глинка продолжил в сочинениях, посвященных армянскому вопросу, привлекшему к себе внимание общественности в ходе русско-персидской войны 1826–1828 годов. В работах «Обозрение истории армянского народа от начала бытия его до возрождения области Армянской в Российской империи»29 и «Описание переселения армян азербайджанских в пределы России, с кратким предварительным изложением исторических времен Армении»30 С. Н. Глинка доказывал правомерность притязаний России на вхождение армянских территорий в состав Российской империи. Определяющими в этом отношении факторами он считал исповедание одной религии31 (Глинка не замечал разницы между русским православием и армянским монофизитством — Н. Л.), породившее схожесть нравственного облика двух народов, и общность политического устройства. Так, Глинка утверждал, что «Армения от начала бытия своего имела быт патриархальный»32, причем его изображение очень напоминает политический строй древней Руси, «реконструированный» им в «Русском вестнике». Неудивительно, что армяне «издревле» проявляли приверженность к России;
эта приверженность стала очевидна в царствование Петра I, а русско-персидская война стала последним и закономерным шагом на пути сближения «братьев-Христиан»33. Следует отметить, что работы Глинки, посвященные истории Армении, сыграли «определенную роль в становлении русской школы арменоведения»34.
Таким образом, в работах, посвященных «Восточному вопросу» во внешней политике России, С. Н. Глинка доказывал, что нахождение православных балканских народов под властью Османской империи носило искусственный характер, что эти чуждые культурно-исторические единицы удерживались в рамках данного политического образования насильственным образом. Все православные страны, находящиеся в ее составе, он считал сферой интересов России. Основываясь на внешнеполитических взглядах С. Н. Глинки, можно сказать, что религиозный фактор играл решающую роль не только в структуре национальной идентификации, но и в геополитической системе координат. Характерно, что, рассматривая Польшу как самостоятельное государство, выросшее из католических культурно-религиозных традиций, Глинка отрицательно относился не только к присоединению Польши к России (для него правомерным было лишь возвращение земель, некогда входивших в состав Киевской Руси), но и к вмешательству России в ее внутриполитические дела35.
Исходя из взглядов С. Н. Глинки на «Восточный вопрос» во внешней политике России, можно сделать вывод о безусловном влиянии на него традиции европейского Просвещения, акцентировавшей внимание именно на судьбе греков, рассматривавшей их как родоначальников европейской цивилизованности и образованности, и требовавшей их освобождения из-под «варварского» турецкого владычества, с дальнейшим восстановлением греческой государственности. Влияние просветительской мысли видно и в попытке установить прямую взаимосвязь между миром политики и областью нравственности, так как именно падением нравов Глинка объяснял политический закат тех или иных обществ и государств.
В то же время Глинка обращался и к более раннему образу России как наследницы Византии, и, в отличие от просветителей-атеистов, акцентировал внимание на религиозном факторе как определяющем национальное бытие народов: так, перешедшие в ислам христиане теряли национальное лицо, ассимилировались с исламским миром, а столетиями находившиеся под владычеством мусульман армяне, сохранявшие верность религии отцов, сохранили и народную самобытность. Это позиция характерна уже для консервативной мысли, у истоков которой в России и стоял С. Н. Глинка. В своих взглядах на «Восточный вопрос» в российской политике он актуализировал и обобщил основной круг проблем, которые очень по-разному — иногда диаметрально противоположно — будут пытаться решить последующие поколения русских консерваторов, таких как М. П. Погодин, М. Н. Катков, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев. С. Н. Глинка, уже находясь на закате своей общественно-политической и публицистической деятельности, почувствовал важность вопроса, роль которого в российской истории очень верно и талантливо определил Ф. М. Достоевский: «Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы для всего восточного Христианства, и для всей судьбы будущего Православия на земле, для единения его. Так всегда понимали это наш народ и государи его… Одним словом, этот страшный Восточный вопрос — это чуть не вся судьба наша в будущем. В нем заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории»36.
Список литературы Восточный вопрос в сочинениях С. Н. Глинки
- Акопян Э. А. Арменоведческие взгляды А. Н. Радищева и С. Н. Глинки (К изучению русско-армянских литературных и научных связей XVIII — начала XIX в.) // Литературные связи. Ереван, 1981. Т. 3. С. 93–125.
- [Глинка С. Н.] Исторический взгляд на общества европейские и на судьбу моего отечества. 1 января 1844 г. // ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Е. х. 18. 212 л.
- Глинка С. Н. Картина историческая и политическая новой Греции. М., 1829. 127 с.
- Его же. Картина историческая и политическая Порты Оттоманской, от начала существования поколения турецкого до взятия Константинополя и до падения греческой державы, с присовокуплением о войнах турков со времени вторжения их в Европу до 1830 года. М., 1830. 308 с.
- Глинка С. Н. Обозрение внутренности Турции Европейской, почерпнутое из древних и новых писателей. С присовокуплением 12-ти картинок, изображающих окрестности Константинополя, древние и новые памятники зодчества, находящихся в стенах его. М., 1829. 94 с.
- Глинка С. Н. Обозрение истории армянского народа от начала бытия его до возрождения области Армянской в Российской империи. Ч. 1–2. М.,1832–1833. Ч. 1. 1832. 273 с.; Ч. 2. 1833. 294 с. Книга была переиздана Глинка С. Н. Обозрение истории армянского народа / [Арменовед. благотворит. о-во]. — [Репринт. воспроизведение изд. 1832 г.] — Ереван, 1990. 294 с.
- Глинка С. Н. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России, с кратким предварительным изложением исторических времен Армении, почерпнутое из современных записок Сергеем Глинкою. М., 1831. 142 с. Книга была переиздана Глинка С. Н. Описание переселения армян азербайджанских в пределы России, с кратким предварительным изложением исторических времен Армении. Почерпнутое из современных записок Сергеем Глинкою. Баку, 1990. 142 с.
- Глинка С. Н. Поэма о нынешних происшествиях или воззвание к народам о единодушном восстании против турок. Сочинение Вольтера. Подражание Сергея Глинки. С историческими примечаниями сочинителя и подражателя. М., 1828. 30 отд. л.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876–1877 / Достоевский Ф. М. Собр. соч. : В 20 т. Т. 19. М., 1999. 384 с.
- Жуков К. А. Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб., 2006. 227 с.
- Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004. 416 с.
- Лупарева Н. Н. Глинка Сергей Николаевич // Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века : энциклопедия. М., 2010. С. 114–117.
- Лупарева Н. Н. Русский вестник // Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века : энциклопедия. М., 2010. С. 418–420.
- Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004. 464 с.