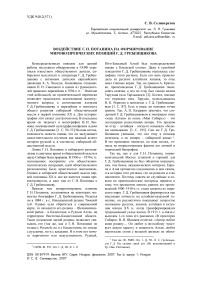Воздействие Г. Н. Потанина на формирование мировоззренческих позиций Г. Д. Гребенщикова
Автор: Селиверстов С.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736830
IDR: 14736830 | УДК: 940.2(571)
Текст краткого сообщения Воздействие Г. Н. Потанина на формирование мировоззренческих позиций Г. Д. Гребенщикова
Непосредственным поводом для данной работы послужило обнаружение в ГАРФ переписки известного общественного деятеля, сибирского мыслителя и литератора Г. Д. Гребенщикова с активным деятелем евразийского движения К. А. Чхеидзе, ближайшим сподвижником П. Н. Савицкого и одним из руководителей пражских евразийцев в 1930-е гг. 1 Наличие этой небольшой, но примечательной переписки позволяет продолжить исследование малоизученного вопроса о соотношении взглядов Г. Д. Гребенщикова и евразийцев в контексте общего развития сибирской областнической мысли в первой половине ХХ в. Для историографии этот сюжет достаточно нов. В последнее время он затронут в монографии В. Н. Леонова, посвященной культурфилософским идеям Г. Д. Гребенщикова. [1. С. 50–53] На наш взгляд, значимость сюжета такова, что он заслуживает самостоятельного изучения как важный аспект истории русской и, в частности, сибирской общественной мысли.
Линия Г. Н. Потанина и сибирского регионализма в советское время в общественной мысли и науке Сибири была прервана. В 1930-е – 1970-е гг. полноценное восприятие его общественнополитических воззрений, идей областнического регионализма было практически невозможно. Однако в сибирской общественной мысли первой половины ХХ в. все же имеется линия преемственности, и идет она от Г. Н. Потанина к Г. Д. Гребенщикову.
Прежде чем конкретизировать влияние Г. Н. Потанина, остановимся на некоторых моментах биографии Г. Д. Гребенщикова. Родился он в 1884 г. в с. Николаевский рудник Томской губ. Однако если обратиться к современной карте, то находится его родина – Шемонаихин-ский район – в Казахстане, в Рудном Алтае, на территории Восточно-Казахстанской области. Такое положение малой родины позволяет связывать его (так же, как и Г. Н. Потанина) не только с Россией, но и с Казахстаном, не только с русскими, но и с казахами. И в этом нет ничего нарочитого или искусственного. Рудный,
Юго-Западный Алтай был непосредственно связан с Казахской степью. Даже в семейной генеалогии Г. Д. Гребенщикова отразилась специфика этого региона. Если его мать происходила из русских алтайских казаков, то отец имел степные корни. Так, по данным А. Кратен-ко, происхождение Г. Д. Гребенщикова такое: « мать казачка, а дед по отцу был сыном казаха Тарухана (или Тарлыкана)» [2]. Кстати, именно это тюркское имя, Тарухан, использовалось Н. К. Рерихом в контактах с Г. Д. Гребенщиковым [1. С. 87]. Есть и иные, но похожие точки зрения. Так, А. П. Казаркин замечает, что созданный Г. Д. Гребенщиковым в эмиграции гимн «хану Алтаю» (в книге «Моя Сибирь») – это легендарная родословная автора. Его предков по отцу – алтайцев – когда-то называли «белыми калмыками» [3. С. 195]. Сам же Г. Д. Гребенщиков указывал, что «по отцу я потомок монголов, а по матери – сибирский казак» 2 . И это признание является, на наш взгляд, отнюдь не второстепенным фактом его личной и творческой биографии.
Так же, как и для Г. Н. Потанина, тюркомонгольский Восток (степной и горный) для Г. Д. Гребенщикова не был объектом внешнего, или, тем более, академического интереса. Европа и Азия органично соединились в нем самом, и в истории того региона, где он родился и стал писателем. Поэтому совсем не случайные и совсем не ориенталистские интересы привели к тому, что предметом многих ранних его произведений 1900–1910-х гг. стали сюжеты из тюркского мира. Г. Д. Гребенщиков формируется как мыслящая личность на алтайско-казахской тематике, он реалистично показывает непростое положение русских, казахов, алтайцев в ситуации начала ХХ в., когда трансформировался традиционный уклад жизни. В 1913 г. в связи с выходом 1-го тома его рассказов «В просторах Сибири» В. Я. Шишков отметил: «Автор любит свою родину… Он любит и по-особому чувствует дикую красоту и мощность Алтая, любит киргизские степи с вольной жизнью их обита-
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 1: История © С. В. Селиверстов, 2007
теля – киргиза» (цит. по: [4. С. 71]). Позитивный взгляд на казахов со стороны русского человека свидетельствует, что Г. Д. Гребенщиков лишен того высокомерно-шовинистического взгляда на «инородцев», который был присущ определенной части русского общества.
Отношение Г. Д. Гребенщикова к тюркам не ограничивается внешним описанием соседского быта. Как отмечает П. Поминов, опыт создания в повести «Ханство Батырбека» (1913) характера героя-казаха изнутри «не был бы возможен не только без знания бытовых особенностей самого уклада жизни степняка, но и свободного владения казахским языком» [5. С. 106]. На первый взгляд такое допущение кажется гипо-тетичным,но знанию Г. Д. Гребенщиковым казахского языка есть подтверждение. Встретив на фронте мировой войны казаха из Каркара-линска Эмекея, Г. Д. Гребенщиков свободно общается с ним по-казахски, о чем красочно написано в очерке «Каркаралинский мещанин» [6].
В начале ХХ в. сибирская литература, по замечанию А. П. Казаркина, «с трудом могла противостоять подчиняющему воздействию “столичной” традиции, вторично европейской, не чуткой к Востоку» [2. С. 196] Молодой Г. Д. Гребенщиков и олицетворял собой, на наш взгляд, именно вот эту дефицитную в европейской России «чуткость к Востоку» – к Востоку как сибирско-старообрядческому, так и к тюрко-монгольскому. Подчеркнем, внимание к русско-тюркским сюжетам, характерное для Г. Д. Гребенщикова, является не привнесенной, а изначальной особенностью его творчества. И эту особенность мы можем обозначить не как европейско-колониальный по своей сути взгляд, а как евразийскую мыслительную тенденцию. Ш. Р. Елеукенов так пишет о Г. Д. Гребенщикове: «русский писатель, воспитанный на традициях евразийской культуры» [7. С. 43]. Полагаем, что эта точка зрения верна, понимая под евразийством здесь не конкретную доктрину, а практику позитивных русско-тюркских, евразийских отношений.
Вот будучи таким стихийным «евразийцем», человеком, для которого степной мир был совсем не чужим ни по менталитету, ни этнически, ни по языку, и встретился Г. Д. Гребенщиков с Г. Н. Потаниным 28 декабря 1909 г. [8. С. 284]. В какой же степени повлияли на него областническо-регионалистские, осознанные евразийские идеи Г. Н. Потанина?
Обратимся к самому Г. Д. Гребенщикову. В письмах 1911–1917 гг. к Г. Н. Потанину корреспондент, которому было тогда 27–32 года, исключительно уважительно обращается к адресату, как правило: «дорогой», «милый, хороший Григорий Николаевич», «милый, дорогой учитель», «любимый, дорогой Григорий Николаевич», «дорогой отец родного края». Столь же характерны и подписи: «любящий Вас», «преданный Вам Г. Гребенщиков», «обнимаю Вас, как преданный сын», «Ваш весь душою» [9]. Содержание писем свидетельствует о самых теплых чувствах автора. В ноябре 1912 г. Г. Д. Гребенщиков в Петербурге, он выступает в Сибирском собрании с докладом об Алтае. Там его зовут «Малый Сибиряк», относя, разумеется, слово «Большой» к самому Г. Н. Потанину. В ноябрьском письме из Петербурга Г. Д. Гребенщиков обращается к Большому Сибиряку: «…клянусь Вам… по мере сил оправдать оказанное мне доверие… я необычайно рад тому, что силы, излучающиеся из Вас, Григорий Николаевич, не уходят в пространство, а питают наши сердца и души, и это питание является лучшею порукой того, что у Сибири будет расти своя интеллигентская среда, свято держащая светлое знамя с написанными Вами словами: “Все лучшее – для своей родины!..” От уверенности в этом я чувствую необычайный подъем энергии. Аминь!» [9. С. 260].
В марте 1914 г. Г. Д. Гребенщиков в связи с публикацией воспоминаний Г. Н. Потанина в томской «Сибирской жизни» вновь эмоционально пишет: «Как радостно сознавать, что Господь Бог наградил Вас неувядающей свежестью мысли, молодостью чувства и феноменальной памятью!.. В Ваших статях всегда столько теплоты и света, бодрости, что… проникаешься светлой благодарностью к Вам и любовью» [9. С. 170].
Особенно примечательно письмо от 21 сентября 1915 г., к 80-летию Г. Н. Потанина. Г. Д. Гребенщиков подчеркивает «историческое значение» «большой работы» Г. Н. Потанина, которое, как он пишет, «не мне оценивать». «Какой это великий подвиг – прожить в условиях русской жизни восемьдесят лет, из которых по крайней мере 60 отдано работе… Вы – титан, Григорий Николаевич, Вы каменный богатырь… Вы уцелели вместе с Вашими бессмертными идеалами…» Г. Д. Гребенщиков называет Г. Н. Потанина «полубогом», к которому души тянутся «как растение к солнышку». И потому, «если есть какой-либо Большой Бог справедливости… он вознаградит Ваши страдания, Вашу подвижническую жизнь, Ваши колоссальные труды тем, что исполнит Ваши желания, приукрасит нашу великую мать-родину культурою и светом… Я верю, горячо верю в славное близкое будущее колыбели великого Потанина!» [9. С. 170].
Тогда же, в 1915 г., Г. Д. Гребенщиков публикует свой знаменитый очерк «Большой сибирский дедушка» [10]. А в письме 25 июля 1916 г. уже из действующей армии называет Г. Н. Потанина «Батькой» [9. С. 174]. 15 декабря 1916 г. пишет с Юго-Западного фронта: «Будем надеяться, что в Новом году победоносно окон- чим войну и утвердим обновленную, благоразумную и трезвую Россию и процветающую, культурную Сибирь». И на фронте он подчеркивает свое духовное родство с Г. Н. Потаниным: «В своих мыслях о Сибири с Вами и под Вашим духовным обаянием всегда, ныне и присно и во веки веков» [9. С. 177].
Примечательно письмо Г. Д. Гребенщикова, написанное через год, 29 декабря 1917 г.: «…Особенно радостно было узнать, что в Сибири во главе республики поставлены Вы, первый печальник и борец за ее самобытное самоопределение, Вы – первый знаменосец сибирского патриотизма, а мы, Ваши ученики… идем за Вами дружной молодой ратью и объединяемся под Вашим знаменем для неусыпной и творческой работы на Родине… Дорогой отец родного края! Вы знаете, как мы любим Вас… И Вы поверите, как болит наша душа от того, что мы не можем немедленно приехать к Вам на помощь. Но знайте, что сибиряки везде уже работают на пользу родины, объединяются и поддерживают Сибирскую республику» [9. C. 178]. И в конце: «Горячо обнимаю Вас, дорогой Григорий Николаевич, и низко кланяюсь друзьям, Вас окружающим и помогающим Вам в славном деле создания и утверждения Сибирского государства» [9. С. 179].
Таков восторженно-приподнятый отклик Г. Д. Гребенщикова с Украины по поводу известий о создании Временного Сибирского областного совета. Таково в целом его личное отношение к Г. Н. Потанину, каким оно выявляется из писем 1911–1917 гг. Сама тональность обращений Г. Д. Гребенщикова свидетельствует о том воздействии, влиянии, какое имел на него «отец родного края». Переписка показывает, что между Г. Н. Потаниным и Г. Д. Гребенщиковым установились в 1910-е гг. не про сто формальновежливые отношения, но отношения «учитель – ученик».
Одним из основных следствий этого общения стало более глубокое осмысление Г. Д. Гребенщиковым судьбы народов Сибири и Степного края и, в частности, русско-тюркского соседства. Его стихийно-евразийское, народное отношение к тюркам, лишенное административно-колониального, и, тем более, петербургско-имперского превосходства и высокомерия, в непосредственном общении с Г. Н. Потаниным, с 1909 и по 1915 г., только укрепилось. И то, что изначально было естественным, стихийным взглядом человека из простого народа, постепенно становилось осознанным чувством, серьезной мыслью. По иному и быть не могло, ведь «все молодое и провинциальное, из глухих аулов, из остяцких чумов» – все направлялось к Г. Н. Потанину 3 .
Через Г. Н. Потанина Г. Д. Гребенщиков вышел к пониманию важности этнографических исследований народов Сибири и Степного края и сохранения традиционной культуры. Хотя изначально, по молодости, он и не имел представлений о значимости этнографии. Когда в 1907 г. он познакомился с «Очерками СевероЗападной Монголии», то первая реакция была такой: «Мне казалось невозможным, чтобы один человек… мог столько написать об одной какой-то стране… А главное – зачем так много?». Однако весьма скоро Г. Д. Гребенщиков, конечно, понял всю масштабность и значимость потанинских монографий, где «пытливый ум этнографа» разгадывает загадки прошлого [8. С. 284]. Более того, он и сам по настоянию Г. Н. Потанина в 1909–1911 гг., в летний период совершает поездки по Алтаю для сбора этнографических материалов. В 1909 г. Г. Д. Гребенщиков, с помощью своего друга А. К. Голи-монта, переводит с польского на русский язык известную поэму Г. Зелинского «Киргиз», написанную еще 1842 г., в которой доброжелательно показаны образы степной казахской жизни и которая является ценным источником историкоэтнографических сведений. В 1910 г. этот первый полный перевод, печатается в Томске, в книге «Бытовая Сибирь», а Г. Н. Потанин пишет по поводу этого события статью 4 . Таким образом, интерес Г. Д. Гребенщикова к познанию казахского мира не исчез с переездом в Томск и Барнаул, но, наоборот, под влиянием Г. Н. Потанина приобрел определенную глубину, основательность.
В 1912 г. Г. Д. Гребенщиков перепечатывает в «Жизни Алтая» очерк Г. Н. Потанина «Той» (от которого «в восторге») о свадебном празднике чемальских алтайцев. А ведь в завершение этой статьи Г. Н. Потанин пишет: «Нет, не истреблять нужно поэтическую традицию у алтайцев, а обеспечить ее продолжение» [9. С. 258–259]. Характерен отзыв Г. Д. Гребенщикова о казахском эпосе, точнее о некоем некачественном переводе с казахского на русский язык народного эпоса «Баян-Сулу». В том переводе, который попался в руки Г. Д. Гребенщикова, этот эпос, эта сказка, по его мнению, «изгажена так же, как если бы в крепкий кумыс влить скверненького лимонаду… да и самый сюжет разбавлен интеллигентской, чисто мишурной фантазией. А ведь в подлиннике сказка эта так прекрасна!» [9. С. 175]. Здесь обращает на себя внимание не только то, что Г. Д. Гребенщиков критикует фантазийный перевод, а то, что он знает и понимает оригинал знаменитого эпоса на казахском языке. Вновь мы видим, что он включен на ментальном и языковом уровне не только в русскую сибирскую, но и в казахскую народную культуру. Вспоминая поездку Г. Н. Потанина в 1913 г. в Казахстан, в Сары-Арку, он пишет, что тогда летом Григорий Николаевич в степи «у своих друзей киргизов… не просто отдыхал», а, «конечно, пополнял отечественную этнографию» 5. На самом деле так и было (см.: [11. С. 238–247]).
Итак, Г. Н. Потанин поддерживает и направляет стремление Г. Д. Гребенщикова к познанию народов региона. Их взаимоотношения в конце 1900 – 1910-е гг. позволяют констатировать: влияние Г. Н. Потанина на Г. Д. Гребенщикова в осмысленном восприятии этнокультурного разнообразия Алтая, Степного края, Сибири было весьма значительным.
При этом Г. Д. Гребенщиков с первых встреч с Г. Н. Потаниным стал проникаться не только этнографическим, но и областническим духом, идеей регионального самоуправления Сибири. В первую же встречу, в декабре 1909 г., Г. Н. Потанин подарил ему свою работу «Областническая тенденция в Сибири», которую Г. Д. Гребенщиков прочел «в ту же ночь» [8. С. 286]. Известно, что Г. Н. Потанин возлагал на него определенные надежды и в феврале 1913 г. в письме в Петербург даже провел параллель, смутившую Г. Д. Гребенщикова, между ним и Н. М. Ядринцевым («Знамя Ядринцева лежит не поднятым, и я думаю, вы должны его поднять и понести в будущее») 6 .
Однако в литературе имеется мнение, что «правоверным областником Г. Д. Гребенщиков… не стал» [12. С. 21]. У этой точки зрения есть основания. После окончания Первой мировой войны он не вернулся на Алтай, не включился в борьбу за новую «Сибирскую республику». Смутные годы Гражданской войны он проводит в Крыму, откуда в 1920 г. эмигрирует в Европу, живет во Франции, Германии. Но, неужели Г. Д. Гребенщиков отступник? Неужели все высокие слова в адрес Г. Н. Потанина и сибирской идеи, высказанные им в 1910-х гг., девальвированы и забыты?
Полагаем, что Г. Д. Гребенщиков, несмотря на все повороты жизни 1920-х и последующих лет, вряд ли мог забыть, или тем более пересмотреть свое отношение к Г. Н. Потанину. Уже став последователем Н. К. Рериха, он в 1929 г. пишет, что тот «первый после Потанина и Пржевальского возвысил голос в защиту Азии перед европейскими книжниками» [13. С. 63]. Иначе говоря, соотношение приоритетов между Г. Н. Потаниным и Н. К. Рерихом как защитников народов Востока признается Г. Д. Гребенщи- ковым и спустя годы после смерти его первого учителя. И если Г. Д. Гребенщиков не продолжил дело Г. Н. Потанина в прямой общественно-политической борьбе за сибирские областнические идеалы, то он продолжил его работу в другом, не менее значимом направлении. Судьбе было угодно, чтобы он проникся другой важнейшей стороной потанинских идей – осмыслением Сибири, Азии, Востока.
Материал поступил в редколлегию 13.10.2006